АСЕЕВ
Николай Николаевич
(9.07.1889 - 16.07.1963)
 9 июля 1889 года в небольшом уездном городе Льгове Курской губернии в семье страхового агента Н. Асеева родился сын, которого назвали в честь отца Николаем.
9 июля 1889 года в небольшом уездном городе Льгове Курской губернии в семье страхового агента Н. Асеева родился сын, которого назвали в честь отца Николаем. Голос свистит щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке.
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке.
Пройдут годы, и этот мальчик ”большеголовый” станет одним из зачинателей советской поэзии, понесет через всю жизнь любовь к городу своего детства. В самом деле, мало у кого из писателей можно найти столь частые упоминания, такие теплые, задушевные слова о местах, где родился и вырос.
В автобиографии Н. Асеев так писал о Льгове: “ Городок был совсем крохотным - всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недальний луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах... Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море...
 Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов, то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово - проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старинный город, стараясь жить по старинке”... Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где родился и вырос Н. Асеев.
Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов, то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово - проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старинный город, стараясь жить по старинке”... Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где родился и вырос Н. Асеев.Не очень отличалось его детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя...
Свою мать мальчик помнил плохо: она умерла, когда сыну было всего шесть лет. Отец был постоянно в разъездах, колесил по городам Курской губернии, нередко вместе с маленьким Колей. Об этих полузабытых впечатлениях детства Асеев напишет впоследствии в поэме “ Маяковский начинается”:
Как вам рассказать о тогдашней России?.. Отец мой был агентом страховым. Уездом пузатые сивки трусили, и дом упирался в поля - слуховым. И в самое детство забытое, раннее - я помню - везде окружали меня жестянки овальные: “ Страхование - Российского общества - от огня”. |
 Вскоре после смерти матери отец женился вторично. Дед и бабушка Пинские, родители матери, оставили внука у себя. В автобиографии Николай Асеев говорил, что первым и главным его воспитателем был дед Николай Павлович Пинский - строитель местной больницы, фантазер и выдумщик. Страстный охотник, рыболов, влюбленный в родную природу, он часто брал с собой внука, и они пропадали по неделям в лесах и на реке.
Вскоре после смерти матери отец женился вторично. Дед и бабушка Пинские, родители матери, оставили внука у себя. В автобиографии Николай Асеев говорил, что первым и главным его воспитателем был дед Николай Павлович Пинский - строитель местной больницы, фантазер и выдумщик. Страстный охотник, рыболов, влюбленный в родную природу, он часто брал с собой внука, и они пропадали по неделям в лесах и на реке.Мальчик заслушивался красочными рассказами деда из охотничьей жизни, которых тот знал множество. И первые стихи он тоже услыхал от деда. Дед пел, аккомпанируя себе на торбане, старинном русском музыкальном инструменте.
В статье “ Русский стих”, вошедшей в книгу “ Разговор о поэзии”, Н. Асеев писал о том, что на всю жизнь запомнил стихи, которые по старинному русскому обычаю пел его дед.
"Устный стих... существовал в народе, и не только в виде былин и песен, которые имеют опору в сопровождающем их музыкальном аккомпанементе. И не только древние гусли, но и до наших дней сохранившиеся бандуры и торбаны в значительной степени помогали исполнителю в строе повествования. Это был обычно речитатив, заканчивающийся аккордом струн и мелодической голосовой нотой. Так пел мой дед, аккомпанируя себе на торбане.
Только много позднее узнал я, что слышанное мною от деда было отрывком из шевченковского “ Слепого”.
Чайки-челны спускали, Пушками их уставляли, Из широкого устья днепровской выплывали Среди ночи темныя, Среди моря синего, За островом Тендром утопали, погибали... |
Теперь я беру, конечно, уже канонический текст, но, я помню, что именно так, целым куском, шел речитатив, трагически заканчивающийся рыдающим аккордом струн и длительным дрожанием старческого голоса. Меня, ребенка. тогда трогало это до слез, да и сейчас трогает. Это был стих, сопровождаемый аккомпанементом струн; это был прообраз давнего времени, когда стих и мелодия были объединены не только рифмой и размером, но и главным образом выразительностью исполнения”.
Особенно запомнились Николаю Асееву “охотничьи истории” деда. В одном из писем Н. Асеева есть подробное описание этих рассказов.
“Первым живым поэтом, встретившимся мне в жизни, был мой дед Николай Павлович Пинский. Его фантастические рассказы о собственных приключениях должны были бы быть записанными, с рифмами или без рифм, оставаясь настоящей поэтической выдумкой. Например, о быках, дравшихся у шалаша, в котором дед заночевал. Быки дрались так яростно, что от летевших от ударов их лбов искр загорелся шалаш. Или же о зайце, унесшем дедовы часы. Зайца этого потом, когда он из русака сделался уже беляком, все же настиг выстрел деда.
Часы оказались в целости, висели у зайца на шее, но что удивительно - они все еще шли! Вот какой был завод!
И попробовали бы вы , будучи слушателем, усомниться в слышанном. Как все самолюбивые авторы, дед критики не терпел!”
Характерно, что во всех воспоминаниях о Николае Павловиче Пинском Асеев подчеркивает, что именно деду он обязан своим поэтическим дарованием, поэтическим видением. Асеев пишет, что дед был знатоком языка, говорил на чистейшем орловско-курском диалекте, обладал способностью увлекать слушателя своими красноречивыми рассказами. Любовь к нему поэт позднее выразил в стихотворении “Дед”:
Травою зеленой одет, лукавя прищуренным глазом, охотничьим длинным рассказом прошел и умолкнул мой дед. И я, его выросший внук, когда мне приходится худо, лишь злую подушку примну, все вижу в нем Робина Гуда. Зеленые волны хлебов, ведущие с ветром беседу, и первую в мире любовь к герою, к охотнику - к деду. |
От деда у Асеева и подлинная любовь к фольклору, и яркость, былинность речи, и “курских глаз его синева”.
 С такой же глубокой любовью вспоминает Асеев о бабушке, Варваре Степановне Пинской, бывшей крепостной, которую дед, полюбив, выкупил из неволи.
С такой же глубокой любовью вспоминает Асеев о бабушке, Варваре Степановне Пинской, бывшей крепостной, которую дед, полюбив, выкупил из неволи. Бабушка была неграмотной, но обладала превосходной памятью, знала массу пословиц и поговорок, часто рассказывала внуку истории о давней жизни и быте, о крепостном праве. Добрая, работящая, она в молодости была красавицей, да и в пожилые годы сохраняла следы былой красоты.
Больше всех на свете Варвара Степановна любила внука, и Коля платил ей столь же глубокой привязанностью. Бабушке Н. Асеев посвятил стихи, вошедшие в цикл “Курские края”:
Бабушка радостною была, бабка иволгою плыла, пирогами да поговорками знаменита и весела. Хоть прописана в крепостях и ценилась-то вся в пустяк, но и в этой цене небольшой красовалась живой душой. Не знавала больших хором, не училась писать пером, не боялась ходить босой по лугам, покрытым росой. |
Николай Асеев часто вспоминал, что от бабушки у него врожденное чувство слова, что именно она еще в раннем детстве научила внука задумываться над загадкой слов.
В очерке “Моя жизнь” поэт писал: “Город Курск - “Куреск”, “Куроск”. Ведь не от слова же курица происходит его старинное название! И я стал рано задумываться над этим именем, стараясь разгадать его происхождение... История городов моего детства увлекала меня в летописи. С них я и начал свое знакомство с литературой”.
Несмотря на неграмотность, Варвара Степановна превосходно знала родной язык. На всю жизнь запомнил поэт бабушкины пословицы, поговорки, ее любовь к точному образному слову.
В статье “Жизнь слова” Н. Асеев вспоминал: “Моя бабушка, помнившая еще крепостное право, всегда поправляла говорившего, что нужно пойти за водой: “За водой пойдешь - не вернешься! По воду пойти - вот как надо сказать!” Для нее слово “вода” было еще полно живого значения пути, уводящего куда-то вдаль!”
 Он писал, что никакая школа, никакой специальный вуз не могут научить писателя понимать жизнь слова так, как учит этому народ. “Народный говор, бытовая речь пронизаны образами, живописны, красочны, дают пищу воображению”. Поэтому не случайно Н. Асеев называет своими учителями в поэзии деда и бабушку Пинских, прекрасных знатоков русского народного языка.
Он писал, что никакая школа, никакой специальный вуз не могут научить писателя понимать жизнь слова так, как учит этому народ. “Народный говор, бытовая речь пронизаны образами, живописны, красочны, дают пищу воображению”. Поэтому не случайно Н. Асеев называет своими учителями в поэзии деда и бабушку Пинских, прекрасных знатоков русского народного языка.Юность Н. Асеева связана с городом Курском. С девяти лет отдали его в Курское реальное училище. Годы детства на всю жизнь запомнились поэту: и катания на санках с горы, и сверкающая на солнце река Тускарь, и детские игры.
О, республика детских лет. государство, великое в малом! Ты навек оставляешь след отшумевшим своим снеготалом. |
 Годы пребывания в реальном училище были для Асеева годами мужания. В то время в Курске , как и всюду после 1905 года, проходили революционные выступления. Вместе с друзьями Н. Асеев принимал участие в тайных сходках. Как вспоминала жена Асеева, Ксения Михайловна, однажды за пение революционных песен он с товарищами был арестован. Позднее Асеев будет писать о годах своей юности:
Годы пребывания в реальном училище были для Асеева годами мужания. В то время в Курске , как и всюду после 1905 года, проходили революционные выступления. Вместе с друзьями Н. Асеев принимал участие в тайных сходках. Как вспоминала жена Асеева, Ксения Михайловна, однажды за пение революционных песен он с товарищами был арестован. Позднее Асеев будет писать о годах своей юности: Не захлопнуть ли вновь урок. сухомяткой не лезущий в глотку? Не пойти ль провести вечерок на товарищескую сходку? |
Еще будучи в реальном училище, Н. Асеев писал стихи, увлекался театром, мечтал об артистической деятельности.
После окончания училища Асеев уезжает в Москву, где поступает в Коммерческий институт и в университет - вольнослушателем. Но уже в это время Асеев целиком отдает себя поэзии, так что , по его же словам, в Коммерческом институте ему было “не до коммерции”, а в университете - “не до вольного слушания”.
В эти годы Асеев много пишет, сближается с такими поэтами, как В. Брюсов, С. Бобров, Б. Пастернак, В. Лидин, начинает печатать свои первые стихи. С 1911 года они появляются в различных сборниках, в альманахах, в журнале “Проталинка”. А с 1914 года одна за другой выходят его книги: “Ночная флейта”, “Зор”, “Леторей”, “Оксана”.
Первый сборник Асеева “Ночная флейта” нес в себе и черты символизма, и влияние модных тогда авторов разных школ. С. Бобров в напутственном предисловии к “Ночной флейте” призывал “отдать себя чистой лирике”, “изучению схем лирических движений”.
Многое в словесных поисках раннего Асеева было связано, конечно, и с новациями предреволюционных лет, и с непосредственным влиянием на молодого поэта его первых учителей и наставников. И среди них, в первую очередь, надо назвать В. Хлебникова и В. Маяковского.
В. Хлебников - один из самых самозабвенных экспериментаторов в русской поэзии ХХ в. Противоречивым и сложным было отношение к его фольклору. Он довольно широко использовал в своих стихах и поэмах и сказки, и заговоры, и песни. Его произведения пестрят бесчисленными ссылками на арабских, индийских, иранских поэтов и мыслителей древности.
Молодого Асеева привлекло, несомненно, хлебниковское полусказочное обожествление мира природы. Ранние стихи Хлебникова ритмико-интонационным и образным строем в чем-то напоминают языческие заклинания. Подобный прием виден и в асеевских “Песнях солнцу”. Асееву был близок и понятен хлебниковский интерес к истории, к судьбам славянства, хлебниковская тяга к “древнерусским” неологизмам, смысловыми оттенками уходящими в корневую основу языка.
Но Асеев - реалист по самому своему видению мира - оставался верным жизненному восприятию бытия. Это проявилось в его сборнике “Зор”. Эта книга с первой строки говорила об интересе к подлинно народному языку, к слову как произведению искусства. Асеев стремился внести в охлажденный, препарированный интеллигентский язык русской поэзии начала века уже позабытое звучание старой речи, на которой объяснялись “низовые да посадские”.
 В 1914 году Асеев встретился с Маяковским, и это оказало влияние на всю его жизнь. Как известно, Маяковский очень быстро сдружился с Асеевым, очевидно увидев в нем черты подлинного поэтического дарования, может быть даже раньше, чем его почувствовал сам поэт. Вероятно, именно тогда он бросил Асееву фразу, которая определила в какой-то степени путь последнего: “ Что вы, Асеев, там с Бобровым возитесь? Ведь он же символист! Пишите так же, как и я, и это будет поэзия будущего”.
В 1914 году Асеев встретился с Маяковским, и это оказало влияние на всю его жизнь. Как известно, Маяковский очень быстро сдружился с Асеевым, очевидно увидев в нем черты подлинного поэтического дарования, может быть даже раньше, чем его почувствовал сам поэт. Вероятно, именно тогда он бросил Асееву фразу, которая определила в какой-то степени путь последнего: “ Что вы, Асеев, там с Бобровым возитесь? Ведь он же символист! Пишите так же, как и я, и это будет поэзия будущего”.В сложные годы поэтических исканий Николай Асеев все чаще брал курс на Маяковского. Трудно сказать. что сблизило их. Сам Асеев объясняет это несколько упрощенно - он говорит, что оба они, в отличие от “высокообразованного и глубоко эрудированного сноба Б. Пастернака, были уличными мальчишками, недоучками и провинциалами, вдруг попавшими в огромный город”. Это не совсем так. Даже очень ранние стихи и высказывания поэтов - и Асеева и Маяковского - говорят о широте кругозора, о культуре.
Никакой особой провинциальности к моменту знакомства у них не было, если, конечно, не называть так запас впечатлений и слов, незнакомых коренным москвичам или петербуржцам. Скорее всего, здесь сыграло роль другое. “Уличные мальчишки” были людьми дерзкими, очень активно воспринимавшими жизнь, угловатыми и по-юношески радостными взахлеб. Асеева тянула к Маяковскому независимость его нового друга и его неустроенность, на расстоянии казавшаяся абсолютной свободой. И, конечно, - огромный талант, который не мог не найти отклика у молодого поэта, продиравшегося сквозь настороженное и холодное равнодушие редакций и редакторов. И не следует забывать еще одно обстоятельство: для них - для Маяковского и для Асеева, приехавших из порядочной глуши,- Москва и Петербург были диковинкой, экзотикой; отсюда повышенное внимание к городу, “урбанизм”, образы, немыслимые у горожанина и у провинциала, держащегося за свою провинциальность как за литературную позу, да слова, далекие от штампов газет и витийствующих лекторов, интерес к фольклору.
Так начинался путь Николая Асеева. Непосредственная встреча с войной, а потом с революцией внесла серьезную поправку в его жизнь, мысли, искания.
Октябрьская революция застала поэта на Дальнем Востоке, где он сотрудничал в местной газете. Ему дана была возможность распоряжаться литературным отделом. В газете Асеев помещал стихи В. Маяковского, В. Каменского, П. Незнамова.
Революционные мотивы очень отчетливо прозвучали в сборнике “Бомба”, выпущенном поэтом во Владивостоке в 1921 году.
“Бомба” была книгой, оторвавшейся от камерных стихов юности поэта. Красота и сила революции утверждались в ней совершенно недвусмысленно.
Солнце, которое так решительно взошло на плакаты Маяковского и заглянуло в его лирику, здесь также очеловечено, оживлено. Оно друг и товарищ поэта:
Товарищ - Солнце! Высуши слез влагу, чьей луже душа жадна. Виват! Огромному красному флагу, которым небо машет нам! |
Но не нужно большой фантазии, чтобы найти параллели между стихами Маяковского и Асеева. Речь здесь идет не о подражании, а о внутренней близости обоих поэтов к идеям революции, сходном понимании происходящего, сходном видении его.
После выхода книги над Асеевым нависла угроза ареста. Получив возможность вырваться из белогвардейских тисков, Николай Асеев с женой Оксаной перебрался в Читу, откуда в 1922 году телеграммой наркома А.В. Луначарского был вызван в Москву.
И с этого времени начинается его творческое содружество с Маяковским, который, пишет Асеев в автобиографии, принял его как родного. Затем началась работа в “Лефе” (Левый фронт искусств), в газетах, издательствах. Он пишет немало стихотворений, фельетонов, памфлетов.
В последующих своих произведениях поэт, преодолевая подчас нарочитую усложненность поэтической образности, стремится к простоте и ясности стиха.
“Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути”,- сказал поэт о себе. И это действительно определяло сильную сторону его сложного таланта. Поэт-лирик широко и активно воспринимал явления общественной жизни, стремился передать высокий пафос рождения нового мира.
 Героическая тема вошла в произведения Асеева вместе с революцией и прозвучала еще в стихах, написанных во Владивостоке. Поэт остался ей верен.
Героическая тема вошла в произведения Асеева вместе с революцией и прозвучала еще в стихах, написанных во Владивостоке. Поэт остался ей верен.Духом революционного энтузиазма проникнуты его произведения 20-30-х годов: поэмы “Свердловская буря”, “Семен Проскаков”, стихи “Синие гусары”, “Двадцать шесть” и многие другие.
В 1927 году Н. Асеев приезжает в Курск со своим учителем и другом В.Маяковским. В Доме офицеров состоялись их выступления. Во время встречи с курянами Маяковский объявил: “Со мной приехал талантливый поэт, ваш, курский поэт Николай Асеев. Своими стихами он доставит вам удовольствие. Для вас несомненный выигрыш”.
 Н. Асеев читал курянам “Синих гусар”, “Русскую сказку”, “Время лучших”. Все бывшие на вечере вспоминают, с какой теплотой встречали куряне своего земляка, ведь среди слушателей были и те, кто знал Н. Асеева по реальному училищу, были друзья его юности.
Н. Асеев читал курянам “Синих гусар”, “Русскую сказку”, “Время лучших”. Все бывшие на вечере вспоминают, с какой теплотой встречали куряне своего земляка, ведь среди слушателей были и те, кто знал Н. Асеева по реальному училищу, были друзья его юности.Пребывание в Курске оживило воспоминания о городе, в котором поэт провел свою юность, о родной курской земле. И курская тема, которая ранее в творчестве Н. Асеева звучала как-то приглушенно, властно вступает в свои права. Так появляются стихотворения, составившие затем цикл “Курские края” ( 1930-1943 ). “Поэзия глубинных российских краев и полузабытое очарование детства определяют тональность этих стихов, мягкую, раздумчивую... Никогда еще не ощущалась с такой силой связь с родиной, с родимой землей, с затерявшимися в российских просторах городками и селами”.
Родной край отнюдь не идеализируется Асеевым. Острые противоречия раздирают сердце поэта. С болью говорит он о зверином быте уездного мещанства:
Что мне вспомнить? Чем меня дарила родина щербатая моя? Рытые да траченые рыла - пьяные дядья да кумовья. |
На кулачных боях еще со времен забытого удела “подымались, падали, сходились городские против слободских”:
Били в душу, душу выбить силясь...
И это не только история, историческое прошлое. Поэт чувствует и в настоящем его угрозу: “ в темень времени сбежав, все еще грозитесь мне, мещаньи выселки с глухого рубежа”.
Но не ими милы автору курские края, а свежестью рощ, соловьиной песнью, манящей прохладой Сейма и Тускаря: славным настоящим и героическим прошлым, своими замечательными людьми. Недаром полемически заявляя во вступлении к циклу, что он и не собирается славить “курский округ, соловьиный край”, поэт завершает свои стихи проникновенным обращением к землякам:
Стойте крепче. вы мое оплечье, вы мои деды и кумовья, вы мое обличье человечье, курские края. |
Н. Асеев любовно говорит о доме своего детства, о деде, о бабке, тепло вспоминает Курск и курские города...
Суджа, Рыльск, Обоянь, Путивль, вы мне верную службу служили. Вы мне в жизнь показали пути, вы мне звук свой в сердце вложили. |
И в грозное время Великой Отечественной войны, завершая стихотворный цикл, посвященный родному краю, поэт находит ту единственную верную интонацию, которая звучание старинной курской речи сливает с новой эпохой:
Сразу даже решить нельзя: то ли клики в военном стане, собрались ли в поход князья, на базар ли спешат крестьяне. Мягкий говор, глухое “ге”, неотчетливые ударенья, словно лебедь блуждает в пурге и теряет свое оперенье. |
Образы, заставившие вспомнить “Слово о полку Игореве”, отчетливо обращены к современности: “старина...сошлась новизной,- обе полы временем свиты”. И это - то единство, позволяющее автору на курском материале решать проблему национального русского характера, ясно и отчетливо выражено в образе Курска военных лет, опаленного огнем, не сгибающегося перед нависшей угрозой:
Город Курск на веков гряде, неподкупный и непокорный, на железной залег руде, глубоко запустивши корни. Он в овчине густых садов, в рукавицах овсяных пашен не боится ничьих судов, никакой ему враг не страшен. |
Критик В. Мильков в своей книге о Н. Асееве справедливо говорит, что “среди поэтических посвящений отчему краю в современной поэзии “Курские края”... должны быть поставлены на одно из первых мест. По искренности чувства, любви к родному краю, поэтически ожившей памяти минувших лет, по выражению духа нашего времени они имеют на это полное право.”
Разумеется, “Курскими краями” не исчерпывается в творчестве Н. Асеева курская тема. Она пронизывает все его творчество:
Курские раздолья и угодья, курская повадка, удаль, стать... |
Исторический подход к осмыслению русского национального характера, обозначившийся уже в “Курских краях”, позволяет Асееву - автору “Богатырской поэмы”, посвященной землякам-курянам, раскрыть неразрывную связь “сведомих кметей” из “Слова о полку Игореве”, былинного Микулы-пахаря и - воинов Отечественной войны, тружеников колхозных полей, создателей искусственных спутников Земли.
Хоть и знаю - невмоготу всех курян назвать поименно,- поднимаю на высоту нашей области Курской знамена,- писал Асеев в своей “Богатырской поэме”, завершаяя ее признанием: И горжусь я и веселюсь, пусть и в сердце старостью ранен, что сильна моя новая Русь и что я ее сын - курянин. |
 30-е годы - время напряженных творческих исканий Н. Асеева. Смысл этих исканий достаточно точно определил Н. Тихонов, когда говорил, что он - “черный труженик стиха, перепробовавший все размеры и жанры... в поисках проникновения в современную тему со всех сторон”. Об авторитете поэта свидетельствует его общественное положение: он входил в редакционную коллегию “Литературной газеты”, был вначале кандидатом в члены, а потом членом оргбюро союза писателей СССР, возглавлял комиссию оргкомитета по приему в Союз писателей, на Первом съезде был избран в состав правления и активно работал в нем. Асеев одним из первых среди советских литераторов был в январе 1939 года награжден орденом Ленина, избирался депутатом Моссовета. В 1941 году за поэму “Маяковский начинается” (1936-1939) получил Государственную премию СССР.
30-е годы - время напряженных творческих исканий Н. Асеева. Смысл этих исканий достаточно точно определил Н. Тихонов, когда говорил, что он - “черный труженик стиха, перепробовавший все размеры и жанры... в поисках проникновения в современную тему со всех сторон”. Об авторитете поэта свидетельствует его общественное положение: он входил в редакционную коллегию “Литературной газеты”, был вначале кандидатом в члены, а потом членом оргбюро союза писателей СССР, возглавлял комиссию оргкомитета по приему в Союз писателей, на Первом съезде был избран в состав правления и активно работал в нем. Асеев одним из первых среди советских литераторов был в январе 1939 года награжден орденом Ленина, избирался депутатом Моссовета. В 1941 году за поэму “Маяковский начинается” (1936-1939) получил Государственную премию СССР. Поэтическая книга о Маяковском стала заметным явлением литературной жизни предвоенных лет. Критика отозвалась на нее многочисленными статьями и рецензиями.
Многократно говорилось о дружбе, связывавшей обоих поэтов, о том, что Маяковский вошел в биографию Асеева, и в личную и в творческую. О том, что Маяковский - об этом Асеев писал много раз сам - сыграл колоссальную роль в его поэтической судьбе.
События в поэме охватывают несколько десятилетий. Асеев дает образ Маяковского в движении, в росте. Каждая глава - новый мазок кисти. Вместе они - эти мазки - сливаются на расстоянии и дают законченный и цельный портрет.
В истории русской литературы поэма о поэте - вещь не часто встречающаяся. Это большое реалистическое полотно - многокрасочное, многоплановое, сложное по своему построению. Собственно говоря, это цикл законченных поэм, связанных с образом Маяковского, с его эпохой, с его друзьями, поэм, совмещающих в себе и историко-литературное исследование, и размышления о будущей поэзии, и первоклассную лирику.
Поэма “Маяковский начинается” вызвала споры уже при своем появлении. Вскоре после завершения поэмы на заседании бюро президиума Союза советских писателей состоялось ее обсуждение с участием поэтов и критиков.
А. Фадеев заявил, что “значение и высокое достоинство поэмы Асеева - бесспорно. Среди советских поэтов Асеев, несомненно, один из крупнейших и самых талантливых”. Алексей Толстой подчеркнул: “Не нужно в критике культивировать директивный тон, не нужно обсуждать то, чего в произведении нет. Гораздо важнее говорить о том, что и как сделано поэтом”.
Поэма Асеева при всем, казалось бы, ее историзме бала произведением, обращенным в настоящее. Более того - эта поэма принадлежала к тем произведениям, которые вооружали наш народ накануне войны.
В годы Великой Отечественной войны лирика Асеева была неразрывно связана с трагической борьбой советских людей с фашизмом. В отличие от Н.Тихонова, А. Твардовского, М. Алигер, П. Антокольского, В. Инбер и некоторых других поэтов, Асеев не написал в эти годы ни одного масштабного произведения, но его лучшие лирические стихи не потерялись в многоголосье советской поэзии, всецело подчинившей себя победе над врагом. Больше того, своей “асеевской “ нотой, сугубо личностной окрашенностью они выделились из огромного потока проходных военных стихов и, выйдя за рамки своего времени, привлекают внимание и сегодняшнего читателя.
Уже на второй день войны Н. Асеев публикует стихотворение “Победа будет за нами”:
Война в наши двери стучится, предательски ломит в окно,- ну что же, ведь это случиться когда-нибудь было должно! ....................................... Охвачена мыслью одною, всей массой объединена, встает большевистской стеною взволнованная страна. |
В лучших стихах о войне Асеев подхватывает замечательную традицию русской классической поэзии ХIХ века, которая, с одной стороны, воспела подвиг, мужество и храбрость русского солдата, с другой - с неподкупной правдой рассказала о самых тяжких страданиях, выпадавших во всех войнах на долю солдата.
В эвакуации в городе Чистополе (Татарстан) поэт с жадностью ловил вести с фронта. У него есть немало стихов о войне, ставшей буднями. Одно из них так и называлось “Будни войны”. Асеев говорил в нем, что “не рассказать про геройство серым, сухим языком”, что поэту надо самому пройти через будни войны, надо зарыться в землю вместе с пехотой. Только тогда сумеет он постичь правду героического подвига народа.
Чуткий к правде, Н. Асеев создает целый ряд стихотворений, трогающих своей глубокой человечностью и реализмом в изображении военной судьбы простых людей, народа в целом: “Полет пуль”, “Будни войны”, “Поезда”, “Городок на Каме”, “Надежда”.
Насилье родит насилье, и ложь умножает ложь; когда нас берут за горло, естественно взяться за нож. ..................................... У всех, увлеченных боем, надежда горит в любом: мы руки от крови отмоем, и грязь от лица отскребем, и станем людьми, как прежде, не в ярости до кости! И этой одной надежде на смертный рубеж вести. (“Надежда”, 1943) |
 В поэмах войны - “Урал”(1944) и “Пламя победы”(1945) Н. Асеев выразил главную задачу времени - осмыслить подвиг народа, показать закономерность жизнестойкости и могущества советской страны в годину тягчайших испытаний.
В поэмах войны - “Урал”(1944) и “Пламя победы”(1945) Н. Асеев выразил главную задачу времени - осмыслить подвиг народа, показать закономерность жизнестойкости и могущества советской страны в годину тягчайших испытаний.Первые послевоенные годы в творчестве Асеева не дали значительных произведений. Были отдельные удачи , были и слабые произведения, но таких, какие стали бы событиями, не было.
Лишь в 1954 году вышел новый сборник Асеева “Раздумья”, ставший вехой на его творческом пути и на пути советской поэзии, знаменуя, как и некоторые другие книги, начало нового этапа развития советской культуры.
В сборник вошла “Поэма о Гоголе” и ряд стихотворений.
“Поэма о Гоголе” - поэма трагическая. Трагичны в ней и образ Гоголя, и самой России, и ее многострадального народа.
Но в сборнике “Раздумье” много стихов, полных оптимизма, в которых отразился взгляд на мир человека, стоящего на самом пороге новой эпохи - эпохи всеобщей справедливости. Образ его проходит через весь сборник, объединяющий стихи на самые разные темы.
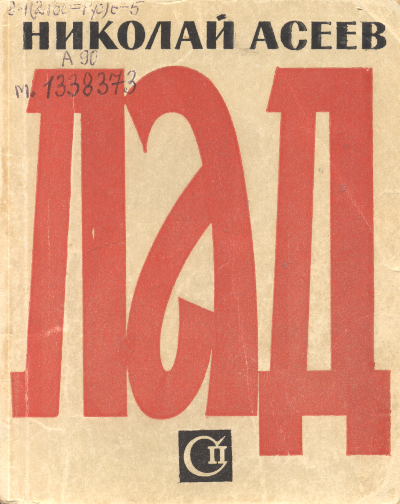 Сборник “Лад” (1961) появился в нашей литературе как явление глубоко закономерное. Новый подъем народного самосознания не мог не продиктовать поэтам новых стихов.
Сборник “Лад” (1961) появился в нашей литературе как явление глубоко закономерное. Новый подъем народного самосознания не мог не продиктовать поэтам новых стихов.Наименованием книги поэт выбрал старинное русское слово, краткое звучанием, емкое смысловой значимостью. В искусстве слово “лад” означает стройное, песенное звучание речи, ее поэтическое совершенство. В ощущении мира и бытия человеческого - согласие, счастливое чувство полноты жизни. В книгу вошли отклики на события общественно-политической жизни страны, в думах поэта отозвались заботы советского народа об упрочении мирного, созидательного пути развития Отчизны.
Сердцевину книги “Лад” составил цикл “Москва - Россия”. Стихи о былинных богатырях (“Илья”, “Микула”), стихи о Кутузове, о Льве Толстом, о Ленине, поэтические картины курских мест в “Богатырской поэме” - по-новому открывали в поэзии Николая Асеева образ Родины, - в богатырский рост, в славном величии народных помыслов и трудов.
Прожитое приходит в книгу стихов “Лад” как ставший историей день вчерашний. Он заявляет о себе фольклорными образами былинных богатырей Ильи и Микулы. Былинный Микула волей воображения приближен к новому веку:
Он, закинувши в небо сошку, поднимается в полный рост, пролунив от земли дорожку до могучих, далеких звезд. ........................ Прошумело столетий чудо, отозвалось эхом в веках, было - вестью древнего люда, стало - вещью в наших руках. |
В других стихотворениях на исторические темы в книге “Лад” факт истории устанавливается как данность, от которой нити удут к современности. Это и в стихотворениях “Бронза”, “Илья”:
у его стального стремени встали новые бойцы, и они уже в наши дни: продолжают снова подвиги богатырские свои. |
В стихотворении “Кутузов” образ полководца вырисовывается через восприятие его недругами, которые плетут интриги, дают советы, честолюбивы и завистливы. Всем строем Асеев подготавливает читателя к заключительным строкам, в которых не оценка поведения Кутузова ( его оценила история) , а раскрытие основной мысли, основного побудительного мотива поведения героя:
То был душой, без крика - русский, что завещал и нам он впредь! |
Но в центре книги стихов “Лад” - сегодняшний день мира, человек и современность. Не раз и не два поэт скажет о полноте счастья, испытываемого им, и источником этого счастья назовет успехи народа и страны. Поздние стихи Асеева по-молодому актуальны и злободневны. В стихотворной публицистике времени “Лада” поэт верен традиции активной гражданственности. И как поэт-гражданин он откликается на все значительные события. Один из многих примеров - отклик на полет первого космонавта Ю.А. Гагарина:
Мы дожили до этого! Стоило, стоило жить! Ждать, надеяться, думать, трудиться, стараться... |
В ряду стихов “реального значения” выделяется “Богатырская поэма”, адресованная землякам-курянам. Эпиграфом к ней поэт взял фразу из любимого им “Слова о полку Игореве...”: “А мои ти куряне свъедоми къмети”... Героями произведения стали простые труженики, покрывшие себя славой на полях сражений и на хлебных нивах. Асеев полон гордости и радости за богатырские свершения своих земляков, “поворачивавших, как плуг, жизнь свою в свете зорь лучистых”.
Сегодняшний день, по мысли поэта, “с будущим завязка”, и это будущее он связывает с безграничностью человеческого познания. Так рождаются его “Звездные стихи”. Цикл состоит из пяти стихотворений. В первом поэт утверждает право стиха дать “таинственную встречу со звездою”. Небо для поэта - не безмолвие, голос миров, к которым устремлен человек. В стихотворении “Полет”, центральном в цикле, встреча с иными мирами представляется как встреча с давним другом. “Звездные стихи” Н. Асеева выражали высокую устремленность мечты и романтические тенденции в творчестве поэта.
Особое место в поздней лирике Н. Асеева занимает “Песнь о Гарсиа Лорке”. Романтической приподнятостью, отчетливой песенной интонацией, внутренней собранностью она как бы сопрягается с такими его творениями, как “Синие гусары” и “Русская сказка”. Героическая по своему содержанию “Песнь о Гарсиа Лорке” вместе с тем образно емко, полно и художественно убедительно выражает асеевское понимание поэзии и места поэта, имеет программное значение в его творчестве.
Поэзия предстает здесь уже не только воплощением человечности, но и воплощением гордой, несгибаемой силы. И раздвигаются границы стихотворного повествования: смерть поэта предстает здесь как трагедия народа, ослепленного, обманутого:
Почему ж ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела? Андалузия знала и Валенсия знала,- что ж земля под ногами убийц не стонала?! Что ж вы руки скрестили и губы вы сжали, когда песню родную на смерть провожали?! |
Но это - не плачь о смерти, это - песнь о жизни. О жизни, отданной людям, о поэзии, без которой нет жизни, о поэте, утверждающем жизнь самой смертью своей. Но поразительнее всего - простые и величественные слова о бессмертии поэта и его поэзии. В них - спокойная мудрость вечно торжествующей жизни:
Но пруды высыхали, и плоды увядали, и следы от походки его пропадали. А жандармы сидели, лимонад попивая и слова его песен про себя напевая. |
Поздний Н. Асеев ощущает себя пусть малой, но неотделимой частью единого океана поэзии. Он сам сравнивал поэзию с океаном, а поэтов - с ручьями и реками, питавшими его. Они несут в него свежую воду. Правда, говорил он и о тинистых, никуда не впадающих озерках и прудах. “Подчас,- замечал он,- они даже удобнее для потребителя; некоторые приобретают лестную славу. И все же, в конце концов, эти стоячие воды постепенно превращаются в лужицы, высыхают и запахиваются. Океан же продолжает жить и греметь, неустанным шумом напоминая людям о движении, о бурях, о несогласии своем на “позорное благоразумие”, которому не смирить его неукротимой силы”.
Со своей песней, с песней своего времени прошел Н. Асеев в поэзии. И созданное им адресовано людям, современникам и тем, кто придет на смену, адресовано миру и будущему.
Летите в окна, облака, входите, сосны, в полный рост, разлейся, времени река, мой дом открыт сиянью звезд! |
В этом открытом “сиянью звезд” поэтическом доме Н. Асеева - судьба поэта, сына своего времени, гражданина и бойца.
Кроме поэзии, есть еще и асеевская проза, литературно-критические работы поэта, его воспоминания о Маяковском. Асеев прежде всего поэт, но и в смежных поэзии литературных цехах совершенствует он свое профессиональное мастерство.
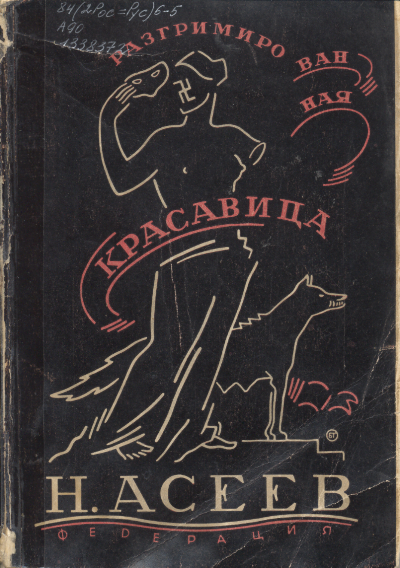 Проза его не идет ни в какое сравнение с его стихами, но и она - свидетельство поисков Асеевым новых форм, новых средств художественной выразительности. В рассказах, собранных в книге “Проза поэта”(1930), меткие бытовые зарисовки (“Охота на гиен”) соседствуют с мрачными фантасмагориями (“Война с крысами”) и напряженными раздумьями о судьбах поэзии, а стало быть, и о своей судьбе (“С девятого этажа”), а за всем этим встает стремление уловить облик эпохи. Оно, это стремление, ощутимо и в суховатой повести “Санаторий”(1930), где главное для Асеева - передать “то чувство рабочей ответственности, которое он внушает всякому своей непрерывной, будничной, размеренной, напряженной работой”. Полем битвы за новую жизнь, за новое искусство становятся страницы очерковой книги Асеева “Разгримированная красавица”(1928).
Проза его не идет ни в какое сравнение с его стихами, но и она - свидетельство поисков Асеевым новых форм, новых средств художественной выразительности. В рассказах, собранных в книге “Проза поэта”(1930), меткие бытовые зарисовки (“Охота на гиен”) соседствуют с мрачными фантасмагориями (“Война с крысами”) и напряженными раздумьями о судьбах поэзии, а стало быть, и о своей судьбе (“С девятого этажа”), а за всем этим встает стремление уловить облик эпохи. Оно, это стремление, ощутимо и в суховатой повести “Санаторий”(1930), где главное для Асеева - передать “то чувство рабочей ответственности, которое он внушает всякому своей непрерывной, будничной, размеренной, напряженной работой”. Полем битвы за новую жизнь, за новое искусство становятся страницы очерковой книги Асеева “Разгримированная красавица”(1928).А литературно-критические статьи и рецензии Асеева? Еще в предреволюционные годы он яростно вмешивается в споры об искусстве нового времени (“Владимир Маяковский и его поэма “Облако в штанах”). И не показательно ли, что пора расцвета поэтического таланта Асеева является и временем его интенсивной деятельности в области литературной критики. Так было в 20-годы: Асеев активно сотрудничает в критических отделах литературных журналов, в его рецензиях и статьях, не свободных, впрочем, от лефовской ограниченности, рассыпаны меткие характеристики современных литературных явлений, литературного процесса. В конце 20-х годов почти одновременно выходят две книги - ”Работа над стихом”(1929) и “Дневник поэта”(1929), где Асеев вводит читателя в свою поэтическую лабораторию и одновременно страстно утверждает свое понимание поэзии, свое представление о ее судьбе и путях развития. Наконец, в последнее десятилетие жизни поэта одна за другой выходят статьи, где вновь - интересно и глубоко - решаются основные проблемы традиций и новаторства в поэзии, ее корней, ее структурной почвы. Собранные вместе - в книге “Зачем и кому нужна поэзия”(1961) - статьи эти позволяют говорить об Асееве-теоретике, создавшем оригинальную концепцию поэтического искусства.
Впрочем, эти сухие слова очень мало подходят к книге Асеева. Это живой рассказ мастера о своем производстве: рассуждения дополняются здесь живо написанными воспоминаниями, свой собственный поэтический опыт позволяет как кровное, личное воспринимать исследуемые поэтом законы поэзии. Это не академический трактат: менее всего склонен Асеев утверждать в своей книге истины в последней инстанции. Можно, например, спорить с поэтом, отвергающим “предвзятую поэзию”: “И как бы такая поэзия ни казалась полезной с точки зрения тех или иных общественных группировок, она никогда не поднималась до той великой значимости, которая вне временной популярности становилась свидетельством величия своей страны, культуры своего народа”. Но не ему ли , много лет запрягавшему свою поэзию в “утилитарную телегу необходимости”, лучше других судить об этом? Асеев страстно утверждает высокое назначение поэзии и именно поэтому восстает против стремления свести поэзию к обслуживанию “повседневной необходимости”.
Книга Асеева - итог многолетних раздумий. Это разговор об истоках поэзии и ее структурной почве, о жизни слова и поэтическом вдохновении. Это разговор о том, что позволяет поэзии быть всегда нужной людям, вдохновлять людей на великие дела.
Подтачиваемые годами и болезнями, таяли силы, но до последних дней своих работал мастер: для него не было жизни вне поэзии.
Н. Н. Асеев деятельно готовился к празднованию 80-летия со дня рождения В. В. Маяковского. На радио подготовили беседу с ним о великом поэте революции. Запись эта была передана в день юбилея. А буквально за день газеты поместили сообщение о смерти Н. Асеева, последовавшей 16 июля 1963 года после тяжелой и продолжительной болезни. “До самой последней минуты, - говорилось в некрологе,- несмотря на тяжелую болезнь, Николай Николаевич работал для поэзии. Творческий порыв, душевная молодость, удивительное жизнелюбие, пламенная любовь к своей Родине - вот черты большого человека и гражданина, каким был и остается в наших сердцах Николай Асеев”.
 Николай Николаевич Асеев скончался 16 июля 1963 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Николай Николаевич Асеев скончался 16 июля 1963 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.На доме, где в 1931-1963 гг. жил поэт (проезд Художественного театра, 2), установлена мемориальная доска. Именем Н. Н. Асеева названа улица в Москве.
Стихи Н. Асееваполучили народное признание, его книги издавались достаточно большими тиражами в нашей стране и за ее пределами, его произведения были переведены на многие языки мира. За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы Н.Н. Асеев был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он - лауреат Государственной премии СССР.
Выдающийся советский поэт, чьи произведения вошли в сокровищницу русской литературы, не может быть понят и осмыслен вне его связи с родным краем, с его историей, с его литературной жизнью.
 И есть нечто знаменательное в том, что, подымаясь по ступенькам областной библиотеки, чье имя она носит, куряне, люди разных лет и профессий, не минуют своим взором установленный при входе в читальный зал мраморный бюст поэта - своего земляка (Работа Розы Трегуб).
И есть нечто знаменательное в том, что, подымаясь по ступенькам областной библиотеки, чье имя она носит, куряне, люди разных лет и профессий, не минуют своим взором установленный при входе в читальный зал мраморный бюст поэта - своего земляка (Работа Розы Трегуб).Имя Асеева носят улицы в Курске, Льгове.
 На здании среднего профессионально-технического училища № 1 (г. Курск, ул. Серафима Саровского), где в начале XX века располагалось Курское реальное училище, в котором учился Н. Н. Асеев, установлена мемориальная доска, посвященная поэту.
На здании среднего профессионально-технического училища № 1 (г. Курск, ул. Серафима Саровского), где в начале XX века располагалось Курское реальное училище, в котором учился Н. Н. Асеев, установлена мемориальная доска, посвященная поэту. В 1988 г. в г. Льгове, в доме, где родился, провел детство и юность Н. Асеев, открыт литературно-мемориальный музей.
В Курском литературном музее развернута экспозиция, посвященная жизни и творчеству нашего знаменитого земляка.
В 2013 г. был объявлен конкурс на лучший проект памятника поэту Николаю Асееву, прославившему курскую землю поэтическим творчеством. По итогам конкурса победителем признана скульптурная композиция И. Минина. Этот памятник будет установлен в Курске в 2014 году к 125-летию поэта на площадке у главного входа в областную библиотеку им. Н. Н. Асеева.
Журнальные публикации перестроечных лет уделяют особое внимание судьбам отверженных и забытых советских писателей, торопливо возмещая прошлые потери. Писателям “благополучным”, хрестоматийно известным везет меньше. В лучшем случае о них просто молчат, а еще чаще категорически “переоценивают”. Причем не всегда пищу для таких переоценок дают специальные научные статьи. “Что делать: крайности - наша черта”,- признавал еще Ф.М. Достоевский.
Зная о травле В. Маяковского и С. Есенина, о тяжелой жизни А. Платонова и ли Е. Замятина, о гонениях на Б. Пастернака и М. Зощенко, читатель подсознательно вырабатывает формулу: не ссылался, не репрессировался, не эмигрировал - значит, до мозга костей сталинист и подхалим, утративший все нравственные устои. Один из источников этой крайности - наше незнание. Пример тому и судьба Николая Асеева.
Историк Д. Бабиченко в журнале “Вопросы литературы”.- 1991.- N 4. в статье “Неизвестный Асеев” опубликовал неизвестные документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве литературы и искусства и Центральном партийном архиве, которые позволяют преодолеть категоричность, глубже понять жизнь самого Асеева и судьбу его поколения.
Впервые эти документы раскрывают малоизвестные страницы жизни и творчества Н. Асеева во время Великой Отечественной войны. Они характеризуют отношения поэта с главным редактором газеты “Правда” П.Н. Поспеловым и его заместителем Е.М. Ярославским.
Как известно, ССП располагал планом эвакуации членов писательской организации. Большая группа писателей: Гладков, Леонов, Пастернак, Фадеев, Федин - была эвакуирована в Чистополь. Среди них был и Асеев, возглавлявший там Литфонд.
Находясь в Чистополе и окунувшись в жизнь тыла, он не идеализировал ее, в то время как его редакторы хотели бы видеть в ней исключительно слаженный, без изъянов механизм, действующий под лозунгом “Все для фронта, все для победы!” Искренние стихи Асеева, не укладывавшиеся в этот трафарет, не устраивали. Его обвиняли в очернительстве. Подобного рода несправедливые обвинения надолго выводили поэта из душевного равновесия. В такие дни у Асеева появлялись в ответ на незаслуженные упреки строки не для печати:
Вот пример: сидишь, поэму пишешь, горбишься над ней и день и ночь, в каждой строчке только тем и дышишь, как стране трудом своим помочь. Как бы ни был смысл ее опошлен мутью непустых, неточных слов, сколько черновых штрафов и пошлин в год ее работы наросло! |
Конфликт поэта с “Правдой” разрешился в сентябре 1942 года, когда в ней появилось стихотворение “Спасите, братья!” С этого времени вплоть до конца 1943 года поэт активно работает. Его стихи появляются в Красной звезде”, “Труде”, журналах. Но затем наступает период затишья. Вплоть до конца войны его стихи не появляются в”Правде”, других центральных газетах и крупных журналах. Причина становится ясной из письма Асеева Сталину, озаглавленного “Личное письмо”. В нем, как и в прежних, автор отстаивает свободу творчества. В черновом наброске письма к Сталину более эмоционально, резко и прямо, чем в отосланном оригинале, выражены обуревавшие его чувства:
К Вам пишу я вновь, товарищ Сталин, Скоро мне придется умереть. Я хочу, чтоб Вы без желчи стали На мою фамилию смотреть. |
Как черновик, так и “Личное письмо”, обращенное к Сталину,- это резкий протест против сложившегося положения вещей - рабской зависимости поэта от воли политиканствующих редакторов. Он высмеивает “послушание и сноровку” одних, вынужденных приспосабливаться , и “сфинкса упрощенное подобье, вздетое к партийным небесам, - других. Естественно, что такая критика не могла пройти бесследно. Даром, что письма на имя Сталина во время войны (не только Асеева) до адресата не доходили( как правило, они переправлялись А. Щербакову).”
Разумеется, произвол политической цензуры испытывал на себе не только Асеев. Документы свидетельствуют: методика выявления и последующего запрещения “ошибочных” произведений срабатывала и в дальнейшем безукоризненно. В перечень “неблагонадежных”, которых принудили отпить из горькой чаши опалы, вошли, кроме Николая Асеева, Ольга Берггольц, Илья Сельвинский, Борис Пастернак, Валентин Катаев, Михаил Зощенко.
Архивные материалы раскрывают новые страницы жизни и творчества писателей военной поры. Новые факты позволяют восстановить, может, и нелицеприятную, но историческую правду.
В этом же номере журнала (Вопросы литературы.- 1991.- N 4.) опубликована статья В. Оскоцкого “Как управляли литературой”... (Послесловие литературоведа к публикации историка ). Он пишет: “Не умаляя , таким образом, ни настойчивости и упорства, проявленных Николаем Асеевым в переписке с сильными мира сего, ни его отчаянного стремления оградить от унижений свое человеческое и писательское достоинство, согласимся, однако, что побудительным мотивом, ведущим стимулом таких несомненно мужественных действий раньше и прежде всего были соображения самозащиты, заданные сложившимися обстоятельствами личной судьбы. Оттого и письмо Сталину не предназначалось ни для чего больше, как для списания не столько даже в собственное творческое наследие, до поры до времени потаенное, сколько в архив партийного аппарата. Для литературы сопротивления в полном смысле столь обязывающего определения явно недостаточно.
 Есть и другие весомые поводы для предостережения от поспешных представлений Николая Асеева рыцарем без страха и упрека, в непременном святочном ореоле подвижника и мученика, воителя или страстотерпца. Ореол снимают некоторые неблаговидные поступки, о которых негоже было бы забывать так же, как, по пословице, чуть переиначенной, о словах, выкинутых из песни. Такова причастность поэта к трагическому концу Марины Цветаевой в Елабуге 31 августа 1941 года.
Есть и другие весомые поводы для предостережения от поспешных представлений Николая Асеева рыцарем без страха и упрека, в непременном святочном ореоле подвижника и мученика, воителя или страстотерпца. Ореол снимают некоторые неблаговидные поступки, о которых негоже было бы забывать так же, как, по пословице, чуть переиначенной, о словах, выкинутых из песни. Такова причастность поэта к трагическому концу Марины Цветаевой в Елабуге 31 августа 1941 года.В то время Николай Асеев находился неподалеку в Чистополе и, будучи руководителем группы Литературного фонда, отвечал за трудоустройство и бытоустройство эвакуированных писателей-москвичей. Естественно, что к нему и обратилась Марина Цветаева за помощью в день, предшествующий самоубийству. “До этого она в Чистополь ездила. Сказывала - к поэту Асееву. Вернулась расстроенная. Очень что-то переживала. Видно, она уехать, что ли, хотела. Здесь она тоже искала работу, да какая тут работа?- такой рассказ хозяйки елабужского дома, где Марина Цветаева снимала комнату, приводит литературовед, критик, публицист Рафаэль Мустафин в очерке “За перегородкой. О последних днях Марины Цветаевой”. И так комментирует услышанное: “...Цветаева ездила в Чистополь, надеясь перебраться туда и устроиться на работу в интернат для детей эвакуированных писателей. Не дождавшись решения комиссии, которая решила вопрос в ее пользу, она вернулась в Елабугу” (с.88). Комментарий исследователя подтверждает приведенная тут же выдержка из письма Ариадны Эфрон автору очерка. В Чистополе, пишет она, Марину Цветаеву “не прописали и отправили в переполненную эвакуированными, в безнадежную в отношении работы Елабугу. В ней Цветаева прожила всего десять дней. Накануне гибели она поехала в Чистополь, просила Асеева помочь с пропиской и устройством в детский дом писателей в качестве посудомойки; Асеев отмахнулся; на собрании, разбиравшем ее заявление, нашлись люди, выступившие против ее кандидатуры (в частности, Тренев - драматург). Находившаяся в соседней комнате моя мать слышала это; не дождавшись конца собрания (после выступления Паустовского в защиту Цветаевой, решившего “вопрос” положительно), она вернулась в Елабугу и покончила с собой. Перед смертью она написала прощальное письмо нам, детям, и мужу, о гибели которого не знала. Она просила нас простить ее за то, что больше не могла всего этого вынести. Второе письмо она оставила Асееву, прося его позаботиться о ее сыне “как о своем собственном”; Асеев не выполнил этого завета. Денег у мамы, когда она умерла, осталось 400 тех, военных рублей - цена двух буханок черного хлеба. Вот вам причины...” Они - “в человеческом равнодушии, в нечеловеческих условиях, в которых пытались жить моя мать по возвращении на родину в те, сталинские времена и которые еще усугублялись войной и эвакуацией”(с.84). О том же в другом письме: “...она погибла жертвой несказанного человеческого равнодушия, жестокости, трусости”(с.86). И еще раз в третьем: “...Единственная абсолютная достоверность о елабужских днях - это сохранившиеся дневники брата; картина в них встает страшная - беспомощности, растерянности эвакуированных; равнодушия “руководящих”; всепожирающего эгоцентризма окружающих...”(с.86).
Разумеется, Н. Асеев не единственный, кто виноват перед Мариной Цветаевой. Вину разделяют с ним и проживавшие в Чистополе К. Федин, А. Фадеев и упомянутый вскользь в письме К. Тренев. Но разве в “долевом” вкладе каждого дело? Как выделить, какими показателями вычислить ту персональную часть, за которую ответственен Н. Асеев, и те, которые на совести других “руководящих”? В ином печаль. В том, что имя поэта приходится склонять в одном ряду не с К. Паустовским, а с К. Треневым, даром что его воинствующий аморализм и демонстративная безнравственность уникальны даже по меркам сталинского времени, вовсе не страдавшего от переизбытка целомудрия.
И в малой степени не снимая с Николая Асеева, как и с находившихся рядом К. Федина, А. Фадеева, К. Тренева, ни нравственной вины, ни моральной ответственности за случившееся в Елабуге, признаем, однако, в нем грешника скорее всего поневоле. Или, говоря проще, своего рода жертву им же проявленного казенного равнодушия к судьбе ближнего, которое сталинизм культивировал и узаконивал как жесткую и жестокую норму человеческих взаимоотношений в любой профессиональной среде, включая писательскую, на любом срезе общества. А. Твардовский в своей поэме “По праву памяти” о том времени говорит:
Средь наших праздников и буден Не всякий даже вспомнить мог, С каким уставом к смертным людям Взывал их посетивший бог. Он говорил: иди за мною, Оставь отца и мать свою, Все мимолетное, земное Оставь - и будешь ты в раю. А мы, кичась неверьем в бога, Во имя собственных святынь Той жертвы требовали строго: Отринь отца и мать отринь. Забудь, откуда вышел родом, И осознай, не прекословь: В ущерб любви к отцу народов - Любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято,- С тем - к высшей цели - прямиком. Предай в пути родного брата И друга лучшего тайком. И душу чувствами людскими Не отягчай, себя щадя. И лжесвидетельствуй во имя И зверствуй именем вождя. |
Таков политический и идеологический, исторический и литературный контекст опалы, выпавшей в годы войны Николаю Асееву. Отстаивая свое достоинство поэта в письмах Поспелову, Ярославскому, Молотову, в стихотворном послании Сталину, он объективно защищал литературу и искусство от политического и идеологического диктата, на котором строилось партийное руководство художественным творчеством.
Практическое же осуществление диктата путем прямой команды или скрытого, обходного маневра - это вопрос не стратегии, а тактики, и принадлежит он сфере не столько эстетической, сколько этической. Нововведение сталинизма состояло в том, что его идеологи напрочь отбросили всякие этические соображения. И тем самым обнажили незакамуфлированную сущность того, что назвали политикой партии в литературе и искусстве. Они самонадеянно полагали, что реализуют эту политику во всеоружии своей теоретической и культурной эрудиции, в то время как, будучи людьми невежественными, темными, мало и плохо образованными, но востребованными эпохой, все и вся сводили на деле к одному- единственному замшелому, дремучему правилу “тащить и не пущать”. Так , не ведая, что творят, они профанировали политику, которую нарекли партийной и самозванно проводили именем партии. Политика силы и насилия, она становилась все более враждебной по отношению к культуре, истребительной по отношению к ее творцам, разрушительной по отношению к ее духовным ценностям и нравственным основаниям.