
Как-то приехала матушка от Троицы. Была она у батюшки Варнавы, и он сказал ей: "А моему... – имя мое назвал, крестик, крестик..." Это показалось знаменательным: раза три повторил, словно втолковывал... "а моему... крестик, крестик!" /.../ – "А тебе вот крестик велел, да все повторял. Тяжелая тебе жизнь будет, к Богу прибегай!" – не раз говорила матушка. И мне делалось грустно и даже страшно. Сбылось ли это? Сбылось... И.С. Шмелев |
"Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... Эти глаза владеют всем лицом... склонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборождено глубокими складками-впадинами от созерцания и сострадания... лицо русское, – лицо прошлых веков, пожалуй – лицо старовера, страдальца. Так и было: дед Ивана Сергеевича Шмелева, государственный крестьянин из Гуслиц, Богородского уезда, Московской губернии,– старовер, кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру – выступал при царевне Софье в "прях", то есть в спорах о вере. Предки матери тоже вышли из крестьянства, исконная русская кровь течет в жилах Ивана Сергеевича Шмелева".
Такой портрет Шмелева дает в своей книжке чуткий, внимательный биограф писателя, его племянница Ю. А. Кутырина.
Портрет очень точный, позволяющий лучше понять характер Шмелева-человека и Шмелева-художника. Глубоко народное, даже простонародное начало, тяга к нравственным ценностям, вера в высшую справедливость и одновременно резкое отрицание социальной неправды определяют его натуру. Более подробное объяснение ее, ее истоков и развития мы находим в биографии Шмелева.
 И. С. Шмелев родился в Москве, в Кадашевской слободе 21 сентября (3 октября) 1873 г., в семье подрядчика Сергея Ивановича Шмелева и его жены Евлампии Гавриловны (в девичестве Савиновой). Крестными были Александр Данилов Кашин и «московская купеческая дочь Елизавета Егорова Шмелева». А. Д. Кашин и Е.Е. Шмелева (в замужестве – Семенович) станут крестными родителями и младшей сестры писателя Екатерины – той самой Катюшки, рождению которой так радовался Сергей Иванович (это описано в «Лете Господнем»).
И. С. Шмелев родился в Москве, в Кадашевской слободе 21 сентября (3 октября) 1873 г., в семье подрядчика Сергея Ивановича Шмелева и его жены Евлампии Гавриловны (в девичестве Савиновой). Крестными были Александр Данилов Кашин и «московская купеческая дочь Елизавета Егорова Шмелева». А. Д. Кашин и Е.Е. Шмелева (в замужестве – Семенович) станут крестными родителями и младшей сестры писателя Екатерины – той самой Катюшки, рождению которой так радовался Сергей Иванович (это описано в «Лете Господнем»).
Глубоки московские корни рода Шмелевых. «Мы из торговых крестьян, — говорил о себе Шмелев, — коренные москвичи старой веры».
Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 г. и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжил его дело и брал подряды на постройку домов. О крутом справедливом характере деда Ивана Ивановича (в семье по мужской линии переходили два имени: Иван и Сергей) Шмелев рассказывает в автобиографии: "На постройке Коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал "из-за упрямства" – отказался дать взятку. Он старался "для чести" и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залог и стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался "царский паркет", из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца. "Цари ходили! – говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. – В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет..." После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом, да эти три тысячи – было все, что осталось от полувековой работы отца и деда. Были долги" [Русская литература. 1973, № 4, с.42].
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева, место матери, занимает отец Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные, душевные строки. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах редко и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, В. Н. Муромцева-Бунина отмечает в дневнике от 16 февраля 1929 г.: "Шмелев рассказывал, как его пороли, – веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце – бесконечно" [Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В 3-х томах, т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1981, с.199].
Вот отчего и в шмелевской автобиографии, и в позднейших книгах-воспоминаниях так мало о матери и так много – об отце.
"Отец не окончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинским. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества – для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики... Я остался после него лет семи" [Русская литература, 1973, № 4, с.142.].
Семья отличалась патриархальностью, истовой религиозностью и одновременно – своеобразным демократизмом. "В доме я не видал книг, кроме Евангелия...", – вспоминал Шмелев. Хозяева и работники жили вместе: строго соблюдали посты, церковные обычаи, вместе встречали праздники, ходили на богомолье. И такое единство духовных принципов и действительного образа жизни, когда ближний является таковым не только по названию, оказалось для Ивана Шмелева доброй «прививкой» искренности на всю жизнь.
 В 6 лет Иван со старым плотником-филенщиком Михаилом Горкиным совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру и получил благословение от известного старца Варнавы. В романе «Богомолье» описано это путешествии. Горкина маленький Иван очень любил, уважал и через много лет написал: «Два человека сформировали мою душу: отец и плотник Горкин».
В 6 лет Иван со старым плотником-филенщиком Михаилом Горкиным совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру и получил благословение от известного старца Варнавы. В романе «Богомолье» описано это путешествии. Горкина маленький Иван очень любил, уважал и через много лет написал: «Два человека сформировали мою душу: отец и плотник Горкин».
Когда Ивану было семь лет, его отец упал с необъезженной лошади, которая протащила его по дороге. Сергей Иванович умер 7 октября 1880 г. Без памяти любивший отца Ваня наблюдал похоронную процессию в окно...
После смерти главы семьи Шмелёвы жили трудно, а детей было уже шестеро. Евлампия Гавриловна обладала деловой хваткой, и бани давали прибыль. Кроме того, она сдавала часть дома жильцам. По характеру мать Шмелёва была суровой и деспотичной. Сыновей она регулярно била розгами просто так, не за провинности. Домашнее воспитание поркой начиналось и кончалось...
«Евлампия Гавриловна не умела приласкать, она не была нежной матерью; бессильная в убеждении, в слове, она использовала верное, как ей казалось, средство воспитания. Возвращаясь из первой гимназии, мальчик заходил в часовню Николая Чудотворца у Большого Каменного моста – она была разрушена в 1930-е – и, жертвуя редкую копеечку, просил Угодника, чтобы поменьше пороли; когда его, маленького, худого, втаскивали в комнату матери, он с кулачками у груди, дрожа, криком молился образу Казанской Богородицы, но за негасимой лампадой лик Ее был недвижим. В молитве – все его «не могу» и «спаси»… но мать призывала в помощь кухарку, когда он стал старше – дворника. В четвертом классе Шмелев, сопротивляясь, схватил хлебный нож – и порки прекратились...
Мать, не желая того, была постоянным источником стрессов, ей подросток Шмелев был обязан нервными тиками. В письмах писателя к ставшей в эмигрантские годы его близким другом Ольге Александровне Бредиус-Субботиной встречаем следующее: «И еще помню – Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения – больше передергиваний. После говенья матушка всегда – раздражена, – усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой – и мать дала пощечину. Я – другой – опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) – наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, – и плакал». (Н.М. Солнцева. Иван Шмелев. Жизнь и творчество: жизнеописание. – 510 с., 17 л. илл.. портр.. – М., 2007.)...
Среди любимых писателей еще в детские годы — грамоте Ивана учила мать — оказались Пушкин, Тургенев, Гоголь. В гимназии он увлекся творчеством Лескова, Короленко, Успенского, Мельникова-Печерского и Толстого.
Позднее влияние русской классики проявится не только в выборе сюжетов его собственных произведений, но и во многом определит стиль, позволит выбрать особую интонацию, индивидуальную, и в то же время, связывающую его с национальной литературной традицией: у Ивана рано появилось чувство сопричастности, сострадания.
 Впрочем, неотъемлемой чертой семейной патриархальности было и патриотическое чувство, пылкая любовь к родной земле и ее истории, героическому прошлому. Патриархальны, религиозны, как и хозяева, были и преданные им слуги. Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и подвижниках, сопровождали его в путешествии в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Им он читал Пушкина и Крылова. Позднее Шмелев посвятит одному из них, старому "филенщику" Горкину, лирические воспоминания детских лет.
Впрочем, неотъемлемой чертой семейной патриархальности было и патриотическое чувство, пылкая любовь к родной земле и ее истории, героическому прошлому. Патриархальны, религиозны, как и хозяева, были и преданные им слуги. Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и подвижниках, сопровождали его в путешествии в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Им он читал Пушкина и Крылова. Позднее Шмелев посвятит одному из них, старому "филенщику" Горкину, лирические воспоминания детских лет.
Совсем иной дух, чем в доме, царил на замоскворецком дворе Шмелевых – сперва в Кадашах, а потом на Большой Калужской, – куда со всеx концов России, в поисках заработка, стекались рабочие-строители.
 "Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их "на дворе". Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелет – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти "мастаки и архимеды", как называл их отец. Эти "архимеды и мастаки" пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр.
"Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их "на дворе". Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелет – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти "мастаки и архимеды", как называл их отец. Эти "архимеды и мастаки" пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр.
И-эх и темы-най лес... да эх и темы-на-ай...
Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком. Многое повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали дух захватывающие сказки...
Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами" [Русская литература, 1973, № 4, с. 142-143].
Сознание мальчика, таким образом, формировалось под разными влияниями. "Наш двор" оказался для Шмелева первой школой правдолюбия и гуманизма, что во многом предопределило характер его будущего творчества и позицию автора – защитника обиженных и угнетенных ("Гражданин Уклейкин", 1907; "Человек из ресторана", 1911; "Неупиваемая Чаша", 1919; "Наполеон", 1928, и др.).
Домашнее воспитание заронило в его душу глубокую любовь к России, веру в победу высшей справедливости, тягу к нравственно-духовным и религиозным исканиям.
Однако, возвращаясь к той атмосфере, которая царила в шмелевском доме, следует сказать, что, при всей патриархальности и верности старозаветным укладам, в ней ощущались – и чем далее, тем сильнее – веяния культуры, образования, искусства. И в этом, бесспорно, была заслуга матери. Неласковая, жестокая, волевая, она, тем не менее, прекрасно понимала, как важно дать детям отличное образование, и добилась этого, несмотря на резко ухудшившееся материальное положение семьи после нежданной смерти кормильца-мужа.
Повзрослевший Шмелев-гимназист открыл для себя новый, волшебный мир – мир литературы и искусства. Это определило его увлечения – сперва театром (он вызубрил весь репертуар у Корша), а потом – музыкой. Старшая сестра училась в консерватории и собиралась, как вспоминал сам Шмелев, "кончать "на виртуозку". Забравшись под фикус, мальчик часами слушал, как она играла сложные пьесы – Лунную сонату Бетховена или "Бурю на Волге" Аренского (автобиографический рассказ "Музыкальная история", 1934). Неистовый "музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его сочинения:
история", 1934). Неистовый "музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его сочинения:
Гораздо важнее для юного Шмелева оказались первые опыты в художественной прозе: "Вышло это так просто и неторжественно, – вспоминал он в автобиографическом очерке 1931 г. "Как я стал писателем", – что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только – писателем "без печати". В первом классе гимназии он носил прозвище "римский оратор" и был прославленным рассказчиком, специалистом по сказкам.
Страсть к "сочинительству" была необоримой. И некую светлую побудительную роль, безусловно, сыграл А. П. Чехов (очерки 1934 г. "Как я встречался с Чеховым"). Образ его легкой, но незабываемой тенью вошел в память маленького гимназиста. Случайные встречи через много лет стали казаться Шмелеву судьбоносными в выборе пути писателя – страдальца, заступника народного. Чехов остался на всю жизнь его истинным идеалом. Но были и другие влияния, пробуждающие творческое начало. В гимназических буднях, где большинство педагогов отталкивало мальчика своей рутиной, казенным формализмом, воистину светлым лучом выделялся преподаватель словесности, "незабвенный" Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу: пиши как хочешь!
"И я записал ретиво "про природу", – вспоминал Шмелев. – Писать классные сочинения на поэтические темы, например – "Утро в лесу", "Русская зима", "Осень по Пушкину", "Рыбная ловля", "Гроза в лесу"... – было одно блаженство". Это было совсем не то, что задавалось раньше: не "Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования" (...) и не "Чем отличаются союзы от наречий"... Кто знает, быть может, если бы не Цветаев, мы не знали сегодня замечательного писателя Шмелева...
"Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на "о", посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил "слово": так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный "Сатаной", и тот проникался чувством.
Имел он песен дивный дар и голос, шуму вод подобный, – певуче читал Цветаев, и мне казалось, что – для себя. Он ставил мне за "рассказы" пятерки с тремя иногда крестами, – такие жирные! – и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек: «Вот что, муж-чи-на... – а некоторые судари пишут "муш-чи-на", как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! – у тебя есть что-то... некая, как говорится, "шишка". Притчу о талантах... пом-ни!".
Видимо, под благотворным влиянием Цветаева резко расшился умственный кругозор Шмелева-гимназиста, обогатился его духовный мир, в который вошли новые книги, новые авторы. В автобиографии сам он отмечал: "Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на пашей дворе. Некоторые рассказы из "Записок охотника" соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову – чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его "Казаки" и "Война и мир" меня закрутили и потрясли. И помню, закончив "Войну и мир", – это было в шестом классе, – я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель – это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом "писатель" я благоговел. И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани – Пушкин и Толстой" [Русская литература, 1973, № 4, с. 144.].
Однако собственные его литературные опыты удачи пока не приносили. Он плакал, когда писал ночами сентиментальный рассказ "Городовой Семен" (подражание "Будке" Г. Успенского), но рукопись вернули. Другой, юмористический, рассказ набрали в журнале "Будильник" – его зарезали в цензуре. И все же пережитый восторг творчества не давал покоя. Гимназист сочинял роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой "он" и "она" умирали от чахотки. И все же первый успех пришел. С темой, более скромной и, главное, близкой Шмелеву. И тут, очевидно, сыграли свою роль "цветаевские" сочинения на поэтические темы, "про природу".
Лето перед выпускным классом Шмелев провел на глухой речушке, у старой мельницы. И вдруг, посреди упражнений с Гомером, Софоклом, Вергилием, он почувствовал, по собственным словам, "что-то", необыкновенный прилив творческого возбуждения, и написал большой рассказ с маху, за один вечер. А в июле 1895 г., уже студентом, получил по почте толстую книгу журнала "Русское обозрение" со своим рассказом "У мельницы". Руки тряслись, прыгали мысли: "Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... готовиться. Я – другой, другой".
Но до настоящего писательства еще предстоял долгий и трудный путь...
С исключительной страстностью шмелевской натуры мы сталкиваемся не раз, когда знакомимся с его биографией. В молодости его круто шатало: от истовой религиозности к сугубому рационализму в духе шестидесятников, от рационализма – к учению Л. Н. Толстого, к идеям опрощения и нравственного самоусовершенствования. Учась на юридическом факультете Московского университета (1894-1898), Шмелев неожиданно для себя серьезно увлекается ботаническими открытиями К. А. Тимирязева.
Летом 1893 г. на каникулы приехала погостить к родственникам, жильцам Шмелёвых, студентка Патриотического Института Ольга Александровна Охтерлони. Ей было тогда шестнадцать лет, Ивану – 18. Она происходила из обедневшего шотландского дворянского рода, родственного династии Стюартов. Её прадед приехал в Россию еще при Екатерине II. Умная, начитанная, верующая девушка хотела стать сельской учительницей. Она сыграла исключительную роль в духовном прозрении Шмелева. Богослов и философ А.В. Карташев, сблизившийся со Шмелевым уже в Париже, так пишет о роли Ольги Охтерлони в судьбе Шмелева: «Она потихоньку очистила от пыли божницу, заправила остывшую лампадку и засветила ее».
Иван увлёкся Ольгой с первых же дней и регулярно ходил к ней в гости. Мать Ивана была категорически против этой дружбы и всячески ей препятствовала.
 Окончил гимназию Шмелёв в 1894 г. и поступил в Московский университет, на юридический факультет. Евлампия Гавриловна сыскала сыну богатую невесту, купеческую дочь, но Иван с Ольгой переупрямили мать. В октябре 1895 г. в собственной усадьбе на Клязьме отгуляли пышную свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие сначала в Троице-Сергиеву лавру к старцу Варнаве, а потом – на Валаам.
Окончил гимназию Шмелёв в 1894 г. и поступил в Московский университет, на юридический факультет. Евлампия Гавриловна сыскала сыну богатую невесту, купеческую дочь, но Иван с Ольгой переупрямили мать. В октябре 1895 г. в собственной усадьбе на Клязьме отгуляли пышную свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие сначала в Троице-Сергиеву лавру к старцу Варнаве, а потом – на Валаам.
В течение последующих 50 с лишним лет, вплоть до смерти Ольги Александровны в 1946 г., они почти не расставались друг с другом.
Несмотря на патриархальное купеческое воспитание, с обычаями и культурой, основанной на православных традициях, перед свадьбой Иван пишет своей невесте: «Мне, Оля, надо еще больше молиться. Ведь ты знаешь, какой я безбожник». Именно благодаря влиянию на Ивана Шмелева набожной супруги Ольги, будущий писатель на осознанном уровне вернулся к своим корням – православной вере, за что всю жизнь был благодарен жене. Забегая немного вперед, скажем, что 6 января 1896 г. в их семье родился единственный и горячо любимый сын Сергей.
 А тогда, по настоянию молодой жены, Шмелёв выбрал местом для их свадебного путешествия древний Валаамский монастырь: «И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург? …Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!»
А тогда, по настоянию молодой жены, Шмелёв выбрал местом для их свадебного путешествия древний Валаамский монастырь: «И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург? …Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!»
Благословение в свадебное путешествие Шмелев получил у старца Варнавы Гефсиманского в Троице-Сергиевой Лавре. Преподобный Варнава, провидя писательский талант, благословил его еще и так: «…превознесешься своим талантом». Укрепляя Ивана, старец в нескольких словах приоткрыл ему и то, что его жизненный путь будет сопряжен со множеством испытаний. Благословение это исполнилось в точности: Шмелев стал выдающимся русским писателем, и на долю его выпало быть свидетелем революции и гражданской войны, пережить смерть самых близких людей и разлуку с Россией...
 Впечатления от поездки оказались неожиданными, противоречивыми и пестрыми. Видимо, потому, что, как сам Шмелев признается, на Валаам он поехал «никакой по вере». "Светлый Валаам" явил студенту и некоторые подробности суровой и безрадостной жизни рядовых монахов, тунеядство пастырей, вызвал ироническую улыбку в рассуждениях об "аскетизме плоти" и вовсе неприязненное изображение "любопытствующих", праздных посетителей, пьяноватых купчиков и девок. Тем сильнее была потребность поделиться увиденным. Так родились очерки "На скалах Валаама". "Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое!" – вспоминал Шмелев позднее в автобиографическом рассказе "Первая книга" (1934). (Позже уже в 30-х гг. в эмиграции очерки были переписаны заново). Само название книги – "Старый Валаам" – подразумевает, что Шмелев пишет об уже утраченном, о мире, который существовал только до революции, но, тем не менее, все повествование очень радостное и живое. Читатель не просто видит яркие картины природы Ладоги и монастырского быта, а проникается самим духом монашества. Так, в нескольких словах описывается Иисусова молитва: "Великая от этой молитвы сила, – говорит автору один из монахов, – но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение".
Впечатления от поездки оказались неожиданными, противоречивыми и пестрыми. Видимо, потому, что, как сам Шмелев признается, на Валаам он поехал «никакой по вере». "Светлый Валаам" явил студенту и некоторые подробности суровой и безрадостной жизни рядовых монахов, тунеядство пастырей, вызвал ироническую улыбку в рассуждениях об "аскетизме плоти" и вовсе неприязненное изображение "любопытствующих", праздных посетителей, пьяноватых купчиков и девок. Тем сильнее была потребность поделиться увиденным. Так родились очерки "На скалах Валаама". "Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое!" – вспоминал Шмелев позднее в автобиографическом рассказе "Первая книга" (1934). (Позже уже в 30-х гг. в эмиграции очерки были переписаны заново). Само название книги – "Старый Валаам" – подразумевает, что Шмелев пишет об уже утраченном, о мире, который существовал только до революции, но, тем не менее, все повествование очень радостное и живое. Читатель не просто видит яркие картины природы Ладоги и монастырского быта, а проникается самим духом монашества. Так, в нескольких словах описывается Иисусова молитва: "Великая от этой молитвы сила, – говорит автору один из монахов, – но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение".
 То, что в книге Шмелева содержится не просто перечень поверхностных впечатлений автора, а богатый материал, знакомящий читателя со всеми сторонами Валаамской жизни – от устава старца Назария до технического устройства монастырского водопровода, – объясняется его подходом к творчеству в целом. Во время написания и "Старого Валаама", и "Богомолья", и своего последнего романа "Пути Небесные", Шмелев прочитывал груды специальной литературы, пользуясь библиотекой Духовной академии, постоянно изучая Часослов, Октоих, Четьи-Минеи, так что в конечном итоге легкость и изящество стиля его книг сочетается с их громадной информативностью.
То, что в книге Шмелева содержится не просто перечень поверхностных впечатлений автора, а богатый материал, знакомящий читателя со всеми сторонами Валаамской жизни – от устава старца Назария до технического устройства монастырского водопровода, – объясняется его подходом к творчеству в целом. Во время написания и "Старого Валаама", и "Богомолья", и своего последнего романа "Пути Небесные", Шмелев прочитывал груды специальной литературы, пользуясь библиотекой Духовной академии, постоянно изучая Часослов, Октоих, Четьи-Минеи, так что в конечном итоге легкость и изящество стиля его книг сочетается с их громадной информативностью.
Изданная за счет автора (1897), книга была остановлена в цензуре. "Сам" всесильный обер-прокурор святейшего синода Победоносцев дал лаконичное распоряжение: "Задержать". Обезображенная цензурой, "израненная, в пластырях", книга раскупалась плохо, и большая часть тиража была продана молодым автором букинисту за гроши. Первый выход в литературу получился неудачным. Перерыв затянулся на целое десятилетие.
После окончания университета и года военной службы Шмелев восемь лет тянет лямку унылого чиновничества в глухих углах Московской и Владимирской губерний. Субъективно очень мучительные, годы эти обогатили его знанием того огромного и застойного мира, который можно назвать уездной Россией. "Служба моя, – отмечал писатель, – явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство" (Русская литература, 1973, № 4, с. 145. Львов-Рогачевский В.).
Месяцы напролет колесит он по ухабам русских дорог, встречая на своем пути представителей всех слоев общества, ночует на постоялых дворах, заросших сиренью и лопухами, пропитанных запахами сена и щей, накапливает впечатления от глухой русской провинции, теплой и сохранившей еще атмосферу старины. Характеры, говор и обороты речи — его «палитра», его писательский капитал…
К 1905 г. интересы его определяются окончательно. Шмелев не сомневается: настоящее дело в жизни для него может быть только одно — писательство. Он начинает печататься в «Детском чтении», сотрудничать в журнале «Русская мысль», и, наконец, в 1907 г., выходит в отставку с тем, чтобы обосноваться в Москве и уже целиком посвятить себя занятию литературой.
В уездных городках, фабричных слободках, пригородах, деревнях встречает Шмелев прототипов героев многих своих повестей и рассказов 1900-х годов. Отсюда вышли "По спешному делу" (1907), "Гражданин Уклейкин", "В норе" (1909), "Под небом" (1910), "Патока" (1911).
До этих углов уже доходили первые раскаты приближающейся революционной грозы. В обстановке наступавшего общественного подъема, в радостно-тревожной атмосфере первой русской революции и следует искать причины, заставившие Шмелева снова взяться за перо. "Я был мертв для службы, – рассказывал он критику В. Львову-Рогачевскому. – Движение девятисотых годов как бы приоткрыло выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чуял, что начинаю жить" [Новейшая русская литература. М., 1927, с. 276]. И основные произведения Шмелева, написанные до "Человека из ресторана", – "Вахмистр" (1906), "Распад" (1906), "Иван Кузьмич" (1907), "Гражданин Уклейкин", – все прошли под знаком первой русской революции.
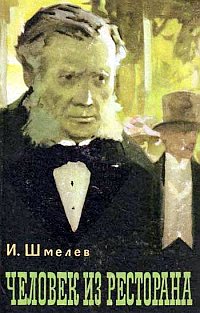 Но настоящий успех принесла Шмелеву повесть «Человек из ресторана» (1910). Историю «маленького человека», отношений отцов и детей в обстановке революции 1905 г. критика и читатели приняли с восторгом, сравнивая ее с дебютом Ф. М. Достоевского. В годы между двумя революциями Шмелев получает широкое признание и уважение признанных мастеров, товарищей по перу. Повесть "Человек из ресторана" была важной вехой для Шмелева-писателя и, напечатанная в XXXVI сборнике "Знания", имела шумный успех. В ее положительной оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. По мотивам шмелевской повести был даже создан фильм "Человек из ресторана", где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся русский актер Михаил Чехов.
Но настоящий успех принесла Шмелеву повесть «Человек из ресторана» (1910). Историю «маленького человека», отношений отцов и детей в обстановке революции 1905 г. критика и читатели приняли с восторгом, сравнивая ее с дебютом Ф. М. Достоевского. В годы между двумя революциями Шмелев получает широкое признание и уважение признанных мастеров, товарищей по перу. Повесть "Человек из ресторана" была важной вехой для Шмелева-писателя и, напечатанная в XXXVI сборнике "Знания", имела шумный успех. В ее положительной оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. По мотивам шмелевской повести был даже создан фильм "Человек из ресторана", где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся русский актер Михаил Чехов.
О стойкой популярности "Человека из ресторана" можно судить и по такому характерному эпизоду. Шмелёвы чуть не погибли во время страшного крымского голода зимой 1921 г. Они зарегистрировались в одной коммунальной столовой, где им выдавали 200 граммов хлеба в день. Но столовая уже была закрыта: хлеб кончился. Вдруг подошел человек и, оглянувшись по сторонам, тихо спросил: «Вы Шмелев? Это Вы написали «Человек из ресторана»? Шмелев рассеянно кивнул. Незнакомец вложил ему в руку сверток, завернутый в белый холст. Хлеб! Целая буханка! Иван Сергеевич считал эту буханку лучшим своим гонораром. «Голод отошел, мы остались живы. Спасибо человеку, давшему нам хлеб», – писал он в одном из писем.
Начало 20-х годов на много лет определило характер творчества Ивана Сергеевича Шмелева. В истории нет сослагательного наклонения, и все же… Не окажись он «запертым» в Крыму во время голода 1921 г., стоившего России 5, 5 млн. жизней, не стань очевидцем красного террора, возможно, о нем осталась бы память лишь как о замечательном, тонком, проникновенном писателе-реалисте, в чьем творчестве порой заметны мотивы Гоголя, Лескова и Куприна.
Влияние критического направления особенно явно в известном его рассказе «Оборот жизни» (1914-1915), написанном в Калужском имении, где Шмелевы переживали события, связанные с началом германской войны. Тема выбрана с гоголевской остротой — дух стяжательства, обращение к собственной выгоде общей беды. Столяру Митрию война принесла барыш. Работа его – изготовление могильных крестов. Но неожиданно свалившиеся на него «доходы» подталкивают и его к осмыслению происходящей трагедии.
 Восприятие войны Шмелевым отчасти обостряется в связи с уходом на фронт его единственного сына Сергея. Болью проникнута и суровая повесть «Это было». Но, в целом, это еще привычный, «узнаваемый» Шмелев.
Восприятие войны Шмелевым отчасти обостряется в связи с уходом на фронт его единственного сына Сергея. Болью проникнута и суровая повесть «Это было». Но, в целом, это еще привычный, «узнаваемый» Шмелев.
Теперь Шмелев – широко читаемый, признанный в России прозаик. В 1912 г. организуется Книгоиздательство писателей в Москве, членами-вкладчиками которого становятся С.А. Найденов, братья И.А. и Ю.А. Бунины, Б.К. Зайцев, В.В. Вересаев, Н.Д. Телешов, И С. Шмелев и другие. Все дальнейшее творчество Шмелева 1910-х гг. связано с этим издательством, в котором выходит собрание его сочинений в восьми томах. В течение 1912-1914 гг. в Книгоиздательстве публикуются рассказы и повести Шмелева "Стена", "Пугливая тишина", "Росстани", "Виноград", упрочившие его положение в литературе как крупного писателя-реалиста.
Первое, на что обращаешь внимание, когда знакомишься с творчеством Шмелева этих лет, – тематическое многообразие его произведений. Тут и разложение дворянской усадьбы ("Пугливая тишина", "Стена"); и драматическая разъединенность благополучных, несколько пресыщенных жизнью артистов-интеллигентов с "простым" человеком – крутым и внутренне богатым в своей цельности речным смотрителем Серегиным ("Волчий перекат"); и тихое житье-бытье прислуги ("Виноград"); и последние дни богатого подрядчика, приехавшего помирать в родную деревню ("Росстани").
Судьба патриархального купечества, сходящего на нет, уступающего место прущему напролом новому, бесцеремонному и наглому буржуа, – пожалуй, центральный мотив в разнообразном творчестве Шмелева 1910-х годов.
Можно сказать, что в целом дореволюционные произведения Шмелева вдохновлены верой в земное счастье людей в радостном будущем, упованиями на социальный прогресс и просвещение народа, ожиданиями перемен в общественном строе России. Вопросы веры, религиозного сознания в это время мало занимают писателя: увлекшись в юности идеями дарвинизма, толстовства, социализма, Шмелев на долгие годы отходит от Церкви и становится, по собственному признанию, «никаким по вере». Однако уже в этот период явственно звучат в его произведениях очень важные для Шмелева темы страдания и сострадания человеку, которые станут определяющими во всем последующем творчестве.
... Наступает 1917 г. Февральскую революцию Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из Сибири. "Революционеры-каторжане, – с гордостью и изумлением писал Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, в действующую армию, – оказывается, очень меня любят как писателя, и я, хотя и отклонял от себя почетное слово – товарищ, но они мне на митингах заявили, что я – "ихний" и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, – они меня читали, я облегчал им страдания" [Письмо от 17 апреля 1917 г. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ)].
Однако взгляды Шмелева ограничивались рамками "умеренного" демократизма. Он не верил в возможность скорых и радикальных преобразований в России. "Глубокая социальная и политическая перестройка сразу вообще немыслима даже в культурнейших странах, – утверждал он в письме к сыну от 30 июля 1917 г., – в нашей же и подавно. Некультурный, темный вовсе народ наш не может воспринять идею переустройства даже приблизительно". Но он любил свой народ и сына наставлял: "Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное"[Отдел рукописей ГБЛ. Там же].
Октябрьскую революцию Шмелев не принял, но вначале не терял оптимизма. 17.11.1917 г. он записал: «Разрушение и хаос, куда не поглядишь... Что ж, умирает жизнь? Рождается..., только мы-то старыми глазами ясно не видим этого... Смерти нет для Великой Страны».
Отход писателя от общественной деятельности, его растерянность, неприятие происходящего – все это сказалось на его творчестве 1918-1922 гг. В ноябре 1918 г. в Алуште Шмелев пишет повесть "Неупиваемая Чаша", которая позднее своей "чистотою и грустью красоты" вызвала восторженный отклик Томаса Манна (письмо Шмелеву от 26 мая 1926 г.).
Как честный художник, Шмелев писал только о том, что мог искренне прочувствовать. Он заклеймил в повести "барство дикое, без чувства, без закона", бесчеловечность крепостничества. Но понять, что революция освобождает народ от барства, он не мог. Он видел только, что на полях России кипит братоубийственная гражданская война, и это очень волновало его. Видя вокруг себя неисчислимые страдания и смерть, Шмелев выступает с осуждением войны "вообще" как массового психоза здоровых людей (повесть "Это было", 1919 г.) или просто показывает бессмысленность гибели цельного и чистого Ивана в плену, на чужой стороне ("Чужой крови", 1918-1923). Во всех произведениях этих лет уже ощутимы отголоски позднейшей проблематики, Шмелева-эмигранта.
 Об отъезде писателя в эмиграцию – разговор особый. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 г. Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло...
Об отъезде писателя в эмиграцию – разговор особый. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 г. Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло...
Первым знаком беды стал арест сына Сергея.
Сделаем небольшое отступление... Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына Сергея, – значит, сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, дышал над ним, а когда сын-офицер оказался на германской, в артиллерийском дивизионе, – считал дни, писал нежные письма. "Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой. Крепко и сладко целую твои глазки и всего тебя...", "Проводили тебя (после короткой побывки) – снова из меня душу вынули" [Отдел рукописей ГБЛ]. Когда многопудовые германские снаряды – "чемоданы" – обрушивались на русские окопы и смерть витала рядом с его сыном, он тревожился, сделал ли его "растрепка", "ласточка" прививку и кутает ли шею шарфом.
Вся вина Сергея Шмелева в глазах новых властей заключалась в том, что он был мобилизован еще до революции. Сначала оказался на фронте, а потом — в армии генерала Врангеля. Молодой человек, отказавшийся от эмиграции и не предполагавший возможных последствий… Он был заключен в один из тех страшных «подвалов», где тысячи определенных к истреблению комиссары морили голодом, томили до измождения, прежде чем, ограбив, расстрелять тайком, ночью, за балкой, и сбросить безымянными в общий ров… Свыше двадцати тысяч в одном лишь Крыму!
Попытки добиться освобождения Сергея оказались тщетны. Шмелев писал к Горькому, Вересаеву, Луначарскому… В письмах он молил последнего о помощи: «Без сына, единственного, я погибну. Я не могу, не хочу жить… У меня взяли сердце. Я могу только плакать бессильно. Помогите, или я погибну. Прошу Вас, криком своим кричу — помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чем».
Уже узнав о расстреле сына, Иван Сергеевич просил найти и выдать его тело: «Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле. Это мое право. Помогите».
Горе от потери сына круто изменило жизнь писателя. Но тогда Шмелев не знал: впереди было еще такое горе, что смерть сына оказалась лишь одним страшным событием в ряду многих: за «реквизициями» в Крыму наступил голод. В 1923-м, уже за границей, Шмелев впервые сможет рассказать о том, что он видел и пережил сам. Его «Солнце мертвых» заставит многих симпатизирующих «великому социальному эксперименту» в России впервые задуматься о цене подобного «опыта».
Поняв, что больше ничего нельзя узнать о смерти сына, Шмелевы ищут возможности выехать из Крыма в Москву.
Приехав в столицу, Шмелевы стали хлопотать о выезде из страны: «Мне нужно отойти подальше от России, чтобы увидеть ее все лицо, а не ямины, не оспины, не пятна, не царапины, не гримасы на ее прекрасном лице. Я верю, что лицо ее все же прекрасно. Я должен вспомнить его. Как влюбленный в отлучке вдруг вспоминает непонятно-прекрасное что-то, чего и не примечал в постоянном общении. Надо отойти...».
По приглашению Бунина в 1922 г. Шмелевы выехали сначала в Берлин, затем – в Париж.
 После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика. Его голос стал глухим и тихим. От созерцания на лице появились глубокие морщины, грустные серые глаза потухли и глубоко запали. «Я все потерял. Все. Я Бога потерял, и какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога?.. С большой ли, с малой буквы — бог (Бог) — он нужен писателю, необходимо нужен. Мироощущение на той или иной религиозной основе — условие, без чего нет творчества».
После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика. Его голос стал глухим и тихим. От созерцания на лице появились глубокие морщины, грустные серые глаза потухли и глубоко запали. «Я все потерял. Все. Я Бога потерял, и какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога?.. С большой ли, с малой буквы — бог (Бог) — он нужен писателю, необходимо нужен. Мироощущение на той или иной религиозной основе — условие, без чего нет творчества».
Лето 1923 г. Шмелевы провели у И. Бунина в Грассе, где Шмелев дописывал эпопею «Солнце мертвых», самую, по словам А. Амфитеатрова, «страшную книгу, написанную на русском языке», — о большевистском терроре и голоде в Крыму. Шмелев не рассказывал о своем личном горе, но Т. Манн, Г. Гауптман, Р. Киплинг, Р. Роллан почувствовали общечеловеческое звучание книги. Это «кошмарный, окутанный в поэтический блеск документ эпохи, ... читайте, если у вас хватит смелости», — писал Т. Манн. Книга впервые опубликована в 1923 г. в Париже и впоследствие переведена на 13 языков. Но, пожалуй, наиболее проникновенно высказал своё мнение о «Солнце мертвых» прозаик Иван Лукаш: «Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на «большие» языки... Читал ее за полночь, задыхаясь. О чем книга И. С. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли. О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной, – когда умерла Россия – о мертвом солнце мертвых...».
После выхода этого романа вернуться в Россию было уже нельзя...
 И, тем не менее, годы, проведенные Шмелевым в эмиграции, насыщены плодотворной творческой работой. Шмелев публикуется во многих эмигрантских изданиях: «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и др. За рубежом при жизни писателя вышло около 20 его книг на русском языке. Шмелев остро переживал то, что в СССР все они были запрещены.
И, тем не менее, годы, проведенные Шмелевым в эмиграции, насыщены плодотворной творческой работой. Шмелев публикуется во многих эмигрантских изданиях: «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и др. За рубежом при жизни писателя вышло около 20 его книг на русском языке. Шмелев остро переживал то, что в СССР все они были запрещены.
Рассказы и повести Шмелева 20-30-х гг. отражают крушение просветительски-народнической идеологии. Одной из магистральных тем творчества становится беспощадный суд над либеральной интеллигенцией, которая соблазнила народ, «отняла» у него Бога и пробудила разгул низменных страстей, жертвой которого сама же и пала. Творчество этих лет проникнуто острой болью за поруганную родину и ее оскверненные святыни.
Вместе с тем Шмелев резко осуждает европейский мир, который также способствовал разрушению России. Он обличает бездуховность, приземленность современной западной цивилизации, в которой комфорт, удобства и развлечения стали главной целью существования.
Рассказы «Два Ивана» (1924), «Про одну старуху» (1925), «Крымские рассказы» (1924-36), повести «Каменный век» (1924), «На пеньках» (1925) продолжают тему «Солнца мертвых». Автор повествует о бездне страданий русского народа, ввергнутого в братоубийственную гражданскую войну, о кровавом торжестве злой стихии, гневно обличая тех, кто перестроился, «применился» к новой власти и идеологии, кто способен «плюнуть в лицо России, во все святое». Сборник «Свет разума» (1928) посвящен теме духовного очищения, религиозного обновления людей, обреченных на тяжкие испытания в атеистическом государстве. В книге «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной» (1929) раскрываются драматические судьбы русских изгнанников.
В 1927 г. увидел свет лирический, отчасти автобиографический роман Шмелева «История любовная» — о пробуждении первых любовных чувств подростка, в котором идеальная романтическая любовь вступает в конфликт с греховным плотским желанием.
В неоконченном же романе «Солдаты» (1930) Шмелев воссоздает картины русского общества начала века. Название романа означает собирательный образ всех людей, объединенных любовью к России, всех носителей национальной идеи, стремящихся укрепить и строить Русь. Им противостоят политиканы-«демократы», ненавидящие армию и разлагающие страну.
«Исповедь раненого сердца» — это определение И. А. Ильина можно отнести не только к художественным произведениям Шмелева, но и к его публицистике, расцвет которой приходится на середину 20-х-30-е годы. Многочисленные очерки и публицистические выступления Шмелева объединены бесконечной любовью к родине, мыслью о ее великом и особом предназначении в судьбах мира. Шмелев верит в грядущее возрождение России, которое возможно только «на основе религиозной… — евангельском учении деятельной любви». Идеи Шмелева во многом близки концепции русской истории его друга и единомышленника философа И. А. Ильина.
 «Среди зарубежных русских писателей И. С. Шмелев — самый русский, — отмечал поэт К. Бальмонт. — Ни на минуту в своем душевном горении он не перестает думать о России и мучиться ее несчастьями». Эти слова помогают понять, почему Шмелев часто оказывался одинок в культурной среде русской эмиграции, имевшей преимущественно «левую», либерально- демократическую ориентацию. Критиков раздражал патриотизм и национальная устремленность творчества писателя.
«Среди зарубежных русских писателей И. С. Шмелев — самый русский, — отмечал поэт К. Бальмонт. — Ни на минуту в своем душевном горении он не перестает думать о России и мучиться ее несчастьями». Эти слова помогают понять, почему Шмелев часто оказывался одинок в культурной среде русской эмиграции, имевшей преимущественно «левую», либерально- демократическую ориентацию. Критиков раздражал патриотизм и национальная устремленность творчества писателя.
«Черносотенной полицейщиной» окрестила эмигрантская пресса роман «Солдаты», где достойно показаны царские офицеры. А видный критик русского зарубежья Г. Адамович преследовал Шмелева оскорбительными, игриво-глумливыми рецензиями. Шмелеву не могли простить «православные русские традиции… то, что он осмелился встать на защиту исторической России против революции». Среди друзей и единомышленников Шмелева можно назвать И. Ильина, семью генерала А. Деникина, Н. Кульмана, В. Ладыженского, К. Бальмонта, А. Куприна. Как на родине, так и в эмиграции на Шмелева одно за другим обрушивались «предельные испытания».
Тяжела была эмигрантская жизнь Шмелева: "Нашу боль ничто не может унять, мы вне жизни...». Помимо всего прочего, огромную массу сил и времени у Шмелева отнимали заботы о самых насущных нуждах: что есть, где жить. Из всех писателей-эмигрантов Шмелев жил беднее всех, в первую очередь, потому, что менее других умел (и хотел) заискивать перед богатыми издателями, искать себе покровителей, проповедовать чуждые ему идеи ради куска хлеба. Существование его в Париже без преувеличения можно назвать близким к нищете – не хватало денег на отопление, на новую одежду, отдых летом.
Поиск недорогой и приличной квартиры порой шел долго и был чрезвычайно утомительным: «Отозван был охотой за квартирой. Устали собачьи – нечего. Не по карману. Куда денемся?! /.../ Поглядел на мою, вечную... / т.е. Ольгу Александровну, жену И. Шмелева/ до чего же истомлена! Оба больные – бродим, нанося визиты консьержкам. /.../ Вернулись, разбитые. Собачий холод, в спальне +6 Ц.! Весь вечер ставил печурку, а угля кот наплакал...».
И. Бунину Шмелев напишет: "Как пушинки в ветре проходим мы с женой жизнь. Где ни быть - все одно..."
 Тем не менее, в конечном итоге французская эмигрантская жизнь Шмелевых всегда напоминала жизнь старой России, с годовым циклом православных праздников, со многими обрядами, кушаньями, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни. Православный быт, сохранявшийся в их семье, не только служил огромным утешением для самих Шмелевых, но и радовал окружающих. Неизгладимое впечатление все подробности этого быта произвели на племянника Шмелевых Ива Жантийома-Кутырина, который, будучи крестником писателя, частью стал заменять ему потерянного сына.
Тем не менее, в конечном итоге французская эмигрантская жизнь Шмелевых всегда напоминала жизнь старой России, с годовым циклом православных праздников, со многими обрядами, кушаньями, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни. Православный быт, сохранявшийся в их семье, не только служил огромным утешением для самих Шмелевых, но и радовал окружающих. Неизгладимое впечатление все подробности этого быта произвели на племянника Шмелевых Ива Жантийома-Кутырина, который, будучи крестником писателя, частью стал заменять ему потерянного сына.
"Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца... – пишет Жантийом-Кутырин, – Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на улице Дарю, но особенно часто – в Сергиевское подворье". "Тетя Оля была ангелом-хранителем писателя, заботилась о нем, как наседка... Она никогда не жаловалась... Ее доброта и самоотверженность были известны всем. <...> Тетя Оля была не только прекрасной хозяйкой, но и первой слушательницей и советчицей мужа. Он читал вслух только что написанные страницы, представляя их жене для критики. Он доверял ее вкусу и прислушивался к замечаниям".
К Рождеству, например, в семье Шмелевых готовились задолго до его наступления. И сам писатель, и, конечно, Ольга Александровна, и маленький Ив делали разные украшения: цепи из золотой бумаги, всякие корзиночки, звезды, куклы, домики, золотые или серебряные орехи. Елку наряжали в эмиграции многие семьи. Рождественская елка в каждой семье сильно отличалась от других. Во всякой семье были свои традиции, свой секрет изготовления елочных украшений. Происходило своего рода соперничество: у кого самая красивая елка, кому удалось придумать самые интересные украшения. Так, и потеряв родину, русские эмигранты находили ее в хранении дорогих сердцу обрядов.
Следующая колоссальная утрата произошла в жизни Шмелева в 1936 г., когда от сердечного приступа умерла Ольга Александровна. Шмелев винил себя в смерти жены, убежденный, что, забывая себя в заботах о нем, Ольга Александровна сократила собственную жизнь. Накануне смерти жены Шмелев собирался ехать в Прибалтику, в частности, в Псково-Печерский монастырь, куда эмигранты в то время ездили не только в паломничество, но и чтобы ощутить русский дух, вспомнить родину.
Поездка состоялась только спустя полгода. Покойная и благодатная обстановка обители помогла Шмелеву пережить это новое испытание, и он с удвоенной энергией обратился к написанию "Лета Господня" и "Богомолья", которые на тот момент были еще далеки от завершения. Окончены они были только в 1948 г. – за два года до смерти писателя.
Пережитые скорби дали ему не отчаяние и озлобление, а почти апостольскую радость для написания этого труда, той книги, про которую русские эмигранты тех лет говорили, что хранится она у них в доме на ночном столике рядом со Святым Евангелием.
Шмелев в своей жизни часто ощущал ту особую радость, которая дается благодатью Духа Святого. Так, среди тяжелой болезни ему почти чудом удалось оказаться в храме на пасхальном богослужении: "И вот, подошла Великая Суббота... Прекратившиеся, было, боли поднялись... Слабость, ни рукой, ни ногой.../.../ Боли донимали, скрючившись, сидел в метро... В десять добрались до Сергиева Подворья. Святая тишина обвеяла душу. Боли ушли. И вот, стала наплывать-нарождаться... радость! Стойко, не чувствуя ни слабости, ни болей, в необычайной радости слушал Заутреню, исповедовались, обедню всю выстояли, приобщились... – и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не помню – когда так чувствовал!"
Поистине чудесным считал Шмелев и свое выздоровление в 1934 г. У него была тяжелая форма желудочного заболевания, писателю грозила операция, и он и врачи опасались самого трагического исхода. Шмелев долго не мог решиться на операцию. В тот день, когда его доктор пришел к окончательному выводу о том, что без операционного вмешательства можно обойтись, писатель видел во сне свои рентгеновские снимки с надписью "Св. Серафим". Шмелев считал, что именно заступничество прп. Серафима Саровского спасло его от операции и помогло ему выздороветь...
 Материальное положение Шмелева порой доходило до нищенства. Война 1939-45 гг., пережитая им в оккупированном Париже, клевета в печати, которой недруги пытались очернить имя писателя, обвинения его в сочувствии фашистам усугубляли его душевные и физические страдания. Ведь, по воспоминаниям современников, Шмелев был человеком исключительной душевной чистоты, не способным ни на какой дурной поступок!.. Ему были присущи глубокое благородство натуры, доброта и сердечность. О пережитых страданиях говорил облик Шмелева — худого человека с лицом аскета, изборожденным глубокими морщинами, с большими серыми глазами, полными ласки и грусти.
Материальное положение Шмелева порой доходило до нищенства. Война 1939-45 гг., пережитая им в оккупированном Париже, клевета в печати, которой недруги пытались очернить имя писателя, обвинения его в сочувствии фашистам усугубляли его душевные и физические страдания. Ведь, по воспоминаниям современников, Шмелев был человеком исключительной душевной чистоты, не способным ни на какой дурной поступок!.. Ему были присущи глубокое благородство натуры, доброта и сердечность. О пережитых страданиях говорил облик Шмелева — худого человека с лицом аскета, изборожденным глубокими морщинами, с большими серыми глазами, полными ласки и грусти.
О Шмелеве этой поры – о человеке и художнике – писал близко знавший его Борис Зайцев: "Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно – с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами "Лето Господне" и "Богомолье" – в них наиболее полно выразилась его стихия" [Письмо от 7 июля 1959 г. Архив автора].
В самом деле, именно "Лето Господне" (1933-1948) и "Богомолье" (1931-1948), а также тематически примыкающий к ним сборник "Родное" (1931) явились вершиной позднего творчества Шмелева и принесли ему европейскую известность. Он написал немало замечательного и кроме этих книг: "Солнце мертвых" (1923), "Няня из Москвы" (1936). Но магистральная тема, которая все более проявлялась, обнажалась, выявляла главную и сокровенную мысль жизни (что должно быть у каждого подлинного писателя), сосредоточенно открывается именно в этой "трилогии", не поддающейся даже привычному жанровому определению (быль-небыль? миф- воспоминание? свободный эпос?): путешествие детской души, судьба, испытания, несчастье, просветление. Здесь важен выход к чему-то положительному (иначе – зачем жить?) – к мысли о Родине. Шмелев пришел к ней на чужбине не сразу.
Из глубины души, со дна памяти подымались образы и картины, не давшие иссякнуть обмелевшему току творчества в пору отчаяния и скорби. С болью узнавал Иван Сергеевич о разрушениях московских святынь, о переименовании московских улиц и площадей. Но тем ярче и бережней он стремился сохранить в своих произведениях то, что помнил и любил больше всего на свете.
 Живя в Грассе, у Буниных, Шмелев рассказывал о себе, о своих ностальгических переживаниях А. И. Куприну, которого горячо любил: "Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я – разве уж так весело? На миг забудешься... (...) Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. ... Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. <...> Все у меня плохо, на душе-то".
Живя в Грассе, у Буниных, Шмелев рассказывал о себе, о своих ностальгических переживаниях А. И. Куприну, которого горячо любил: "Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я – разве уж так весело? На миг забудешься... (...) Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. ... Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. <...> Все у меня плохо, на душе-то".
Отсюда, из чужой и "роскошной" страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия, а в России – страна его детства, Москва, Замоскворечье.
Тема реальности действия Божественного Промысла в земном мире получила воплощение в итоговом произведении писателя — романе «Пути небесные» (т. 1–1937; т. 2–1948). Роман воссоздает судьбы реальных людей, выведенных под своими собственными именами, — скептика-позитивиста, инженера В. А. Вейденгаммера (родственника Шмелева со стороны жены) и глубоко верующей, кроткой и внутренне сильной Дарьи Королевой — послушницы Страстного монастыря в Москве, покинувшей обитель, чтобы связать свою жизнь с Вейденгаммером. Книга посвящена таинственному пути соединения человека с Богом, спасению души. Роман стал уникальным явлением в русской литературе: в основе раскрытия судеб и характеров лежит святоотеческая культура, православное аскетическое мировоззрение. Его внутренним сюжетом является «духовная брань» героев со страстями, искушениями и нападениями злых сил. Молитвенный подвиг, упорная и жестокая борьба с грехом в себе и внешними соблазнами, скорбь от тяжких падений и духовная радость побед, благодатные озарения — эти моменты нашли многогранное воплощение на страницах последнего романа писателя. Смерть Шмелева оборвала работу над третьим томом, но и две вышедшие книги вполне отразили сам дух православной жизни, христианские представления о мире и человеке...
 Кончина писателя-подвижника глубоко символична: 24 июня 1950 г. в день памяти прп. старца Варнавы, некогда благословившего его «на путь», тяжело больной Шмелев приезжает в расположенный неподалеку от Парижа (в местечке Бюси-ан-От) русский монастырь Покрова Божией Матери и в тот же день тихо предает душу Богу.
Кончина писателя-подвижника глубоко символична: 24 июня 1950 г. в день памяти прп. старца Варнавы, некогда благословившего его «на путь», тяжело больной Шмелев приезжает в расположенный неподалеку от Парижа (в местечке Бюси-ан-От) русский монастырь Покрова Божией Матери и в тот же день тихо предает душу Богу.
Духовный смысл совершившегося был очень точно раскрыт насельницей монастыря монахиней Феодосией: "...человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под Её Покровом".
Похоронен писатель был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа...
Особое внимание хотелось бы уделить событию, которое произошло в 2000 г.: перезахоронению праха И.С. Шмелева и его жены в Москве, на кладбище Донского монастыря.
«Я знаю: придет срок – Россия меня примет!» – писал Шмелев задолго до своей смерти, в то время, когда даже имя России было стерто с карты земли. За несколько лет до кончины он составил духовное завещание, в котором отдельным пунктом выразил свою последнюю волю: «Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! в моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву». Писатель просил, чтобы его похоронили рядом с отцом в Донском монастыре.
«Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! в моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву». Писатель просил, чтобы его похоронили рядом с отцом в Донском монастыре.
И Господь по вере его исполнил его заветное желание: 30 мая 2000 г. его прах обрел покой в родной Москве, на кладбище Донского монастыря рядом с могилой отца. Расскажем об этом подробнее.
26 мая 2000 г. самолет из Франции с гробом Ивана Сергеевича и Ольги Александровны Шмелевых приземлился в Москве. Он был перенесен и установлен в Малом Соборе Донского монастыря и в течение четырех дней находился в храме, в котором Патриарх Московский и всея Руси каждый год готовит – варит – Святое Миро, рассылаемое потом по всем храмам Русской Православной Церкви для совершения Таинства Миропомазания. Здесь всегда стоит ни с чем не сравнимый неизъяснимый неземной аромат Святого Мира, как будто благоухание Святой Руси.
... Рано утром в храме еще никого не было. Молодой инок возжигал свечи у гроба писателя, стоявшего посредине под древними сводами храма. В этом храме не раз бывал Иван Сергеевич, здесь отпевали его отца и других Шмелевых, погребенных здесь же на семейном участке монастырского кладбища.
 Гроб Шмелева стоял покрытый золотой парчой, неожиданно маленький – будто детский, где-то метр двадцать – не больше. В одном гробе были положены вместе останки Ивана Сергеевича и его супруги Ольги Александровны.
Гроб Шмелева стоял покрытый золотой парчой, неожиданно маленький – будто детский, где-то метр двадцать – не больше. В одном гробе были положены вместе останки Ивана Сергеевича и его супруги Ольги Александровны.
А чуть ранее, 25 мая, во Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа было совершено "обретение" останков Шмелева. Идея принадлежала Елене Николаевне Чавчавадзе, заместителю председателя Российского фонда культуры. Два года ушло на обращения, согласования, бумажные и финансовые дела. Разрешение министерства иностранных дел Франции было получено в год 50-летия со дня смерти Шмелева. В присутствии полицейских чинов, крестника и наследника писателя И. Жантийома-Кутырина и телерепортеров была вскрыта могила великого писателя. Под большой плитой на глубине почти два метра открылись останки Ивана Сергеевича и Ольги Александровны. От сырости почвы гробы истлели, но косточки остались целыми. Их бережно собрали в этот маленький гробик, который тут же парижские полицейские власти опечатали и отправили в Россию.
Быть погребенным рядом считается особым Божиим благословением супругам, прожившим вместе всю жизнь. Иван и Ольга Шмелевы сподобились большего: они оказались погребены в одном гробе...
В Москве 30 мая стояла какая-то удивительная светлая погода, особый "шмелевский" день – солнце светилось как золотое пасхальное яйцо.
 Гроб Шмелева из храма несли к могиле на плечах священники. Одним из них был о. Александр Шмелев, внучатый племянник писателя. Кто-то из батюшек сказал: "Так только архиереев хоронят". Потом у могилы еще кто-то добавил: "Не по чину даже". Ведь гроб на руках священники несут, если погребают своего собрата и сослужителя у алтаря Божия. Господь сподобил Шмелева особой чести. Наверное, за его многую и великую любовь к Святой Руси, к Святому Православию. Так не хоронили ни одного русского писателя!
Гроб Шмелева из храма несли к могиле на плечах священники. Одним из них был о. Александр Шмелев, внучатый племянник писателя. Кто-то из батюшек сказал: "Так только архиереев хоронят". Потом у могилы еще кто-то добавил: "Не по чину даже". Ведь гроб на руках священники несут, если погребают своего собрата и сослужителя у алтаря Божия. Господь сподобил Шмелева особой чести. Наверное, за его многую и великую любовь к Святой Руси, к Святому Православию. Так не хоронили ни одного русского писателя!
Перед погребением останков Ивана Шмелева и его жены Ольги Александровны Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил панихиду. Говоря о писателе, Патриарх, в частности, сказал: " Произведения его проникнуты глубоко церковным, православным, лично пережитым мироощущением… Шмелев посвятил все свое творчество, все свои силы и таланты тому, чтобы "оповестить" людей об истинности веры православной. ... Настало время, когда мы можем воздать должное этому прекрасному человеку, православному писателю и истинному русскому патриоту...».
Нельзя не сказать здесь и еще об одном произошедшем в этот день событии. Господь сподобил Шмелева в этот день еще одного утешения. Во время погребения к могиле протиснулся мужчина, который передал целлофановый пакетик с землей: "Можно высыпать в могилу Шмелева. Это из Крыма, с могилы его сына – убиенного воина Сергия». «Неужели нашли?!» – спросили мужчину. «18 мая, полторы недели назад, найдено захоронение 18 убиенных в 1921 г. белых офицеров», – отвечал Валерий Львович Лавров, председатель Общества Крымской культуры при Таврическом университете, специально приехавший на перезахоронение Шмелева с горсткой этой земли.
Не было у Шмелева более глубокой незаживающей раны, нежели убийство большевиками в Крыму его сына Сергея. Шмелев даже отказывался от гонораров за свои книги, издававшиеся в Советском Союзе, не желая ничего принимать от власти, убившей его сына...
 С перезахоронением праха Шмелева и его супруги связаны два других события, не менее важных для почитателей таланта писателя и для всей русской литературы. В апреле 2000 г. внучатый племянник и крестник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелева; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя.
С перезахоронением праха Шмелева и его супруги связаны два других события, не менее важных для почитателей таланта писателя и для всей русской литературы. В апреле 2000 г. внучатый племянник и крестник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелева; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя.
 Необходимо упомянуть и о том, что памятник-бюст Ивана Сергеевича Шмелева торжественно был открыт 29 мая в старом столичном районе Замоскворечье, где прошло его детство. Этот место не раз с любовью описано в произведениях Шмелева. Скульптурный портрет писателя был сделан еще при его жизни более шестидесяти лет назад в Париже известным в русской эмиграции скульптором Лидией Лузановской.
Необходимо упомянуть и о том, что памятник-бюст Ивана Сергеевича Шмелева торжественно был открыт 29 мая в старом столичном районе Замоскворечье, где прошло его детство. Этот место не раз с любовью описано в произведениях Шмелева. Скульптурный портрет писателя был сделан еще при его жизни более шестидесяти лет назад в Париже известным в русской эмиграции скульптором Лидией Лузановской.
 А Московский монетный двор выпустил памятную медаль в честь Ивана Сергеевича Шмелева.
А Московский монетный двор выпустил памятную медаль в честь Ивана Сергеевича Шмелева.
... Как-то Иван Сергеевич сказал: “Бог дал грешнику жизнь, и это обязывает. Хочу жить настоящим христианином и смогу это осуществить только в церковном быту”.
 На следующий день после погребения праха Шмелева в Москве был освящен новый храм Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый на месте того самого храма, который некогда посещал маленький Ваня, в котором за свечным ящиком стоял знаменитый Горкин, воспетый с любовью в "Лете Господнем". Того храма уже нет, но на его месте (в иных формах) восстал новый. Кто в этом внешне случайном совпадении, о котором не знали ни строители храма, ни устроители перезахоронения, не увидит знамение Божие! Это своего рода символ: старой "шмелевской" Руси уже нет, но есть новая восстающая Русь Православная, несмотря ни на какие искушения нашего времени...
На следующий день после погребения праха Шмелева в Москве был освящен новый храм Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый на месте того самого храма, который некогда посещал маленький Ваня, в котором за свечным ящиком стоял знаменитый Горкин, воспетый с любовью в "Лете Господнем". Того храма уже нет, но на его месте (в иных формах) восстал новый. Кто в этом внешне случайном совпадении, о котором не знали ни строители храма, ни устроители перезахоронения, не увидит знамение Божие! Это своего рода символ: старой "шмелевской" Руси уже нет, но есть новая восстающая Русь Православная, несмотря ни на какие искушения нашего времени...
В заключение позволим себе еще одну цитату И. Ильина, знавшего и любившего Шмелева: «На великий, скорбный и страшный вопрос: «Кто мы, русские, в истории человечества?» – русские прозорливцы не раз уже давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. На этот вопрос отвечает ныне И.С. Шмелев. И ответ его сразу ДРЕВЕН, как сама Россия, и ЮН, как детская душа или как раннее Божие утро. И в этой древности – историческая правда его художественного ответа».
Такой портрет Шмелева дает в своей книжке чуткий, внимательный биограф писателя, его племянница Ю. А. Кутырина.
Портрет очень точный, позволяющий лучше понять характер Шмелева-человека и Шмелева-художника. Глубоко народное, даже простонародное начало, тяга к нравственным ценностям, вера в высшую справедливость и одновременно резкое отрицание социальной неправды определяют его натуру. Более подробное объяснение ее, ее истоков и развития мы находим в биографии Шмелева.
 И. С. Шмелев родился в Москве, в Кадашевской слободе 21 сентября (3 октября) 1873 г., в семье подрядчика Сергея Ивановича Шмелева и его жены Евлампии Гавриловны (в девичестве Савиновой). Крестными были Александр Данилов Кашин и «московская купеческая дочь Елизавета Егорова Шмелева». А. Д. Кашин и Е.Е. Шмелева (в замужестве – Семенович) станут крестными родителями и младшей сестры писателя Екатерины – той самой Катюшки, рождению которой так радовался Сергей Иванович (это описано в «Лете Господнем»).
И. С. Шмелев родился в Москве, в Кадашевской слободе 21 сентября (3 октября) 1873 г., в семье подрядчика Сергея Ивановича Шмелева и его жены Евлампии Гавриловны (в девичестве Савиновой). Крестными были Александр Данилов Кашин и «московская купеческая дочь Елизавета Егорова Шмелева». А. Д. Кашин и Е.Е. Шмелева (в замужестве – Семенович) станут крестными родителями и младшей сестры писателя Екатерины – той самой Катюшки, рождению которой так радовался Сергей Иванович (это описано в «Лете Господнем»).Глубоки московские корни рода Шмелевых. «Мы из торговых крестьян, — говорил о себе Шмелев, — коренные москвичи старой веры».
Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 г. и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжил его дело и брал подряды на постройку домов. О крутом справедливом характере деда Ивана Ивановича (в семье по мужской линии переходили два имени: Иван и Сергей) Шмелев рассказывает в автобиографии: "На постройке Коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал "из-за упрямства" – отказался дать взятку. Он старался "для чести" и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залог и стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался "царский паркет", из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца. "Цари ходили! – говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. – В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет..." После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом, да эти три тысячи – было все, что осталось от полувековой работы отца и деда. Были долги" [Русская литература. 1973, № 4, с.42].
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева, место матери, занимает отец Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные, душевные строки. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах редко и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, В. Н. Муромцева-Бунина отмечает в дневнике от 16 февраля 1929 г.: "Шмелев рассказывал, как его пороли, – веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце – бесконечно" [Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В 3-х томах, т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1981, с.199].
Вот отчего и в шмелевской автобиографии, и в позднейших книгах-воспоминаниях так мало о матери и так много – об отце.
"Отец не окончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинским. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества – для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики... Я остался после него лет семи" [Русская литература, 1973, № 4, с.142.].
Семья отличалась патриархальностью, истовой религиозностью и одновременно – своеобразным демократизмом. "В доме я не видал книг, кроме Евангелия...", – вспоминал Шмелев. Хозяева и работники жили вместе: строго соблюдали посты, церковные обычаи, вместе встречали праздники, ходили на богомолье. И такое единство духовных принципов и действительного образа жизни, когда ближний является таковым не только по названию, оказалось для Ивана Шмелева доброй «прививкой» искренности на всю жизнь.
 В 6 лет Иван со старым плотником-филенщиком Михаилом Горкиным совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру и получил благословение от известного старца Варнавы. В романе «Богомолье» описано это путешествии. Горкина маленький Иван очень любил, уважал и через много лет написал: «Два человека сформировали мою душу: отец и плотник Горкин».
В 6 лет Иван со старым плотником-филенщиком Михаилом Горкиным совершил паломничество в Троице-Сергиеву лавру и получил благословение от известного старца Варнавы. В романе «Богомолье» описано это путешествии. Горкина маленький Иван очень любил, уважал и через много лет написал: «Два человека сформировали мою душу: отец и плотник Горкин».Когда Ивану было семь лет, его отец упал с необъезженной лошади, которая протащила его по дороге. Сергей Иванович умер 7 октября 1880 г. Без памяти любивший отца Ваня наблюдал похоронную процессию в окно...
После смерти главы семьи Шмелёвы жили трудно, а детей было уже шестеро. Евлампия Гавриловна обладала деловой хваткой, и бани давали прибыль. Кроме того, она сдавала часть дома жильцам. По характеру мать Шмелёва была суровой и деспотичной. Сыновей она регулярно била розгами просто так, не за провинности. Домашнее воспитание поркой начиналось и кончалось...
«Евлампия Гавриловна не умела приласкать, она не была нежной матерью; бессильная в убеждении, в слове, она использовала верное, как ей казалось, средство воспитания. Возвращаясь из первой гимназии, мальчик заходил в часовню Николая Чудотворца у Большого Каменного моста – она была разрушена в 1930-е – и, жертвуя редкую копеечку, просил Угодника, чтобы поменьше пороли; когда его, маленького, худого, втаскивали в комнату матери, он с кулачками у груди, дрожа, криком молился образу Казанской Богородицы, но за негасимой лампадой лик Ее был недвижим. В молитве – все его «не могу» и «спаси»… но мать призывала в помощь кухарку, когда он стал старше – дворника. В четвертом классе Шмелев, сопротивляясь, схватил хлебный нож – и порки прекратились...
Мать, не желая того, была постоянным источником стрессов, ей подросток Шмелев был обязан нервными тиками. В письмах писателя к ставшей в эмигрантские годы его близким другом Ольге Александровне Бредиус-Субботиной встречаем следующее: «И еще помню – Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения – больше передергиваний. После говенья матушка всегда – раздражена, – усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой – и мать дала пощечину. Я – другой – опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) – наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, – и плакал». (Н.М. Солнцева. Иван Шмелев. Жизнь и творчество: жизнеописание. – 510 с., 17 л. илл.. портр.. – М., 2007.)...
Среди любимых писателей еще в детские годы — грамоте Ивана учила мать — оказались Пушкин, Тургенев, Гоголь. В гимназии он увлекся творчеством Лескова, Короленко, Успенского, Мельникова-Печерского и Толстого.
Позднее влияние русской классики проявится не только в выборе сюжетов его собственных произведений, но и во многом определит стиль, позволит выбрать особую интонацию, индивидуальную, и в то же время, связывающую его с национальной литературной традицией: у Ивана рано появилось чувство сопричастности, сострадания.
 Впрочем, неотъемлемой чертой семейной патриархальности было и патриотическое чувство, пылкая любовь к родной земле и ее истории, героическому прошлому. Патриархальны, религиозны, как и хозяева, были и преданные им слуги. Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и подвижниках, сопровождали его в путешествии в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Им он читал Пушкина и Крылова. Позднее Шмелев посвятит одному из них, старому "филенщику" Горкину, лирические воспоминания детских лет.
Впрочем, неотъемлемой чертой семейной патриархальности было и патриотическое чувство, пылкая любовь к родной земле и ее истории, героическому прошлому. Патриархальны, религиозны, как и хозяева, были и преданные им слуги. Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и подвижниках, сопровождали его в путешествии в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Им он читал Пушкина и Крылова. Позднее Шмелев посвятит одному из них, старому "филенщику" Горкину, лирические воспоминания детских лет.Совсем иной дух, чем в доме, царил на замоскворецком дворе Шмелевых – сперва в Кадашах, а потом на Большой Калужской, – куда со всеx концов России, в поисках заработка, стекались рабочие-строители.
 "Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их "на дворе". Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелет – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти "мастаки и архимеды", как называл их отец. Эти "архимеды и мастаки" пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр.
"Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их "на дворе". Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелет – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти "мастаки и архимеды", как называл их отец. Эти "архимеды и мастаки" пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. И-эх и темы-най лес... да эх и темы-на-ай...
Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком. Многое повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали дух захватывающие сказки...
Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами" [Русская литература, 1973, № 4, с. 142-143].
Сознание мальчика, таким образом, формировалось под разными влияниями. "Наш двор" оказался для Шмелева первой школой правдолюбия и гуманизма, что во многом предопределило характер его будущего творчества и позицию автора – защитника обиженных и угнетенных ("Гражданин Уклейкин", 1907; "Человек из ресторана", 1911; "Неупиваемая Чаша", 1919; "Наполеон", 1928, и др.).
Домашнее воспитание заронило в его душу глубокую любовь к России, веру в победу высшей справедливости, тягу к нравственно-духовным и религиозным исканиям.
Однако, возвращаясь к той атмосфере, которая царила в шмелевском доме, следует сказать, что, при всей патриархальности и верности старозаветным укладам, в ней ощущались – и чем далее, тем сильнее – веяния культуры, образования, искусства. И в этом, бесспорно, была заслуга матери. Неласковая, жестокая, волевая, она, тем не менее, прекрасно понимала, как важно дать детям отличное образование, и добилась этого, несмотря на резко ухудшившееся материальное положение семьи после нежданной смерти кормильца-мужа.
Повзрослевший Шмелев-гимназист открыл для себя новый, волшебный мир – мир литературы и искусства. Это определило его увлечения – сперва театром (он вызубрил весь репертуар у Корша), а потом – музыкой. Старшая сестра училась в консерватории и собиралась, как вспоминал сам Шмелев, "кончать "на виртуозку". Забравшись под фикус, мальчик часами слушал, как она играла сложные пьесы – Лунную сонату Бетховена или "Бурю на Волге" Аренского (автобиографический рассказ "Музыкальная
 история", 1934). Неистовый "музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его сочинения:
история", 1934). Неистовый "музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его сочинения:| Мы игроки, мы игроки... Каки-каки мы игроки!.. |
Страсть к "сочинительству" была необоримой. И некую светлую побудительную роль, безусловно, сыграл А. П. Чехов (очерки 1934 г. "Как я встречался с Чеховым"). Образ его легкой, но незабываемой тенью вошел в память маленького гимназиста. Случайные встречи через много лет стали казаться Шмелеву судьбоносными в выборе пути писателя – страдальца, заступника народного. Чехов остался на всю жизнь его истинным идеалом. Но были и другие влияния, пробуждающие творческое начало. В гимназических буднях, где большинство педагогов отталкивало мальчика своей рутиной, казенным формализмом, воистину светлым лучом выделялся преподаватель словесности, "незабвенный" Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу: пиши как хочешь!
"И я записал ретиво "про природу", – вспоминал Шмелев. – Писать классные сочинения на поэтические темы, например – "Утро в лесу", "Русская зима", "Осень по Пушкину", "Рыбная ловля", "Гроза в лесу"... – было одно блаженство". Это было совсем не то, что задавалось раньше: не "Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования" (...) и не "Чем отличаются союзы от наречий"... Кто знает, быть может, если бы не Цветаев, мы не знали сегодня замечательного писателя Шмелева...
"Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на "о", посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил "слово": так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный "Сатаной", и тот проникался чувством.
Имел он песен дивный дар и голос, шуму вод подобный, – певуче читал Цветаев, и мне казалось, что – для себя. Он ставил мне за "рассказы" пятерки с тремя иногда крестами, – такие жирные! – и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек: «Вот что, муж-чи-на... – а некоторые судари пишут "муш-чи-на", как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! – у тебя есть что-то... некая, как говорится, "шишка". Притчу о талантах... пом-ни!".
Видимо, под благотворным влиянием Цветаева резко расшился умственный кругозор Шмелева-гимназиста, обогатился его духовный мир, в который вошли новые книги, новые авторы. В автобиографии сам он отмечал: "Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на пашей дворе. Некоторые рассказы из "Записок охотника" соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову – чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его "Казаки" и "Война и мир" меня закрутили и потрясли. И помню, закончив "Войну и мир", – это было в шестом классе, – я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель – это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом "писатель" я благоговел. И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани – Пушкин и Толстой" [Русская литература, 1973, № 4, с. 144.].
Однако собственные его литературные опыты удачи пока не приносили. Он плакал, когда писал ночами сентиментальный рассказ "Городовой Семен" (подражание "Будке" Г. Успенского), но рукопись вернули. Другой, юмористический, рассказ набрали в журнале "Будильник" – его зарезали в цензуре. И все же пережитый восторг творчества не давал покоя. Гимназист сочинял роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой "он" и "она" умирали от чахотки. И все же первый успех пришел. С темой, более скромной и, главное, близкой Шмелеву. И тут, очевидно, сыграли свою роль "цветаевские" сочинения на поэтические темы, "про природу".
Лето перед выпускным классом Шмелев провел на глухой речушке, у старой мельницы. И вдруг, посреди упражнений с Гомером, Софоклом, Вергилием, он почувствовал, по собственным словам, "что-то", необыкновенный прилив творческого возбуждения, и написал большой рассказ с маху, за один вечер. А в июле 1895 г., уже студентом, получил по почте толстую книгу журнала "Русское обозрение" со своим рассказом "У мельницы". Руки тряслись, прыгали мысли: "Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... готовиться. Я – другой, другой".
Но до настоящего писательства еще предстоял долгий и трудный путь...
С исключительной страстностью шмелевской натуры мы сталкиваемся не раз, когда знакомимся с его биографией. В молодости его круто шатало: от истовой религиозности к сугубому рационализму в духе шестидесятников, от рационализма – к учению Л. Н. Толстого, к идеям опрощения и нравственного самоусовершенствования. Учась на юридическом факультете Московского университета (1894-1898), Шмелев неожиданно для себя серьезно увлекается ботаническими открытиями К. А. Тимирязева.
Летом 1893 г. на каникулы приехала погостить к родственникам, жильцам Шмелёвых, студентка Патриотического Института Ольга Александровна Охтерлони. Ей было тогда шестнадцать лет, Ивану – 18. Она происходила из обедневшего шотландского дворянского рода, родственного династии Стюартов. Её прадед приехал в Россию еще при Екатерине II. Умная, начитанная, верующая девушка хотела стать сельской учительницей. Она сыграла исключительную роль в духовном прозрении Шмелева. Богослов и философ А.В. Карташев, сблизившийся со Шмелевым уже в Париже, так пишет о роли Ольги Охтерлони в судьбе Шмелева: «Она потихоньку очистила от пыли божницу, заправила остывшую лампадку и засветила ее».
Иван увлёкся Ольгой с первых же дней и регулярно ходил к ней в гости. Мать Ивана была категорически против этой дружбы и всячески ей препятствовала.
 Окончил гимназию Шмелёв в 1894 г. и поступил в Московский университет, на юридический факультет. Евлампия Гавриловна сыскала сыну богатую невесту, купеческую дочь, но Иван с Ольгой переупрямили мать. В октябре 1895 г. в собственной усадьбе на Клязьме отгуляли пышную свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие сначала в Троице-Сергиеву лавру к старцу Варнаве, а потом – на Валаам.
Окончил гимназию Шмелёв в 1894 г. и поступил в Московский университет, на юридический факультет. Евлампия Гавриловна сыскала сыну богатую невесту, купеческую дочь, но Иван с Ольгой переупрямили мать. В октябре 1895 г. в собственной усадьбе на Клязьме отгуляли пышную свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие сначала в Троице-Сергиеву лавру к старцу Варнаве, а потом – на Валаам.В течение последующих 50 с лишним лет, вплоть до смерти Ольги Александровны в 1946 г., они почти не расставались друг с другом.
Несмотря на патриархальное купеческое воспитание, с обычаями и культурой, основанной на православных традициях, перед свадьбой Иван пишет своей невесте: «Мне, Оля, надо еще больше молиться. Ведь ты знаешь, какой я безбожник». Именно благодаря влиянию на Ивана Шмелева набожной супруги Ольги, будущий писатель на осознанном уровне вернулся к своим корням – православной вере, за что всю жизнь был благодарен жене. Забегая немного вперед, скажем, что 6 января 1896 г. в их семье родился единственный и горячо любимый сын Сергей.
 А тогда, по настоянию молодой жены, Шмелёв выбрал местом для их свадебного путешествия древний Валаамский монастырь: «И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург? …Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!»
А тогда, по настоянию молодой жены, Шмелёв выбрал местом для их свадебного путешествия древний Валаамский монастырь: «И вот мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда?… Петербург? …Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно… Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот в каком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло… к монастырям!»Благословение в свадебное путешествие Шмелев получил у старца Варнавы Гефсиманского в Троице-Сергиевой Лавре. Преподобный Варнава, провидя писательский талант, благословил его еще и так: «…превознесешься своим талантом». Укрепляя Ивана, старец в нескольких словах приоткрыл ему и то, что его жизненный путь будет сопряжен со множеством испытаний. Благословение это исполнилось в точности: Шмелев стал выдающимся русским писателем, и на долю его выпало быть свидетелем революции и гражданской войны, пережить смерть самых близких людей и разлуку с Россией...
 Впечатления от поездки оказались неожиданными, противоречивыми и пестрыми. Видимо, потому, что, как сам Шмелев признается, на Валаам он поехал «никакой по вере». "Светлый Валаам" явил студенту и некоторые подробности суровой и безрадостной жизни рядовых монахов, тунеядство пастырей, вызвал ироническую улыбку в рассуждениях об "аскетизме плоти" и вовсе неприязненное изображение "любопытствующих", праздных посетителей, пьяноватых купчиков и девок. Тем сильнее была потребность поделиться увиденным. Так родились очерки "На скалах Валаама". "Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое!" – вспоминал Шмелев позднее в автобиографическом рассказе "Первая книга" (1934). (Позже уже в 30-х гг. в эмиграции очерки были переписаны заново). Само название книги – "Старый Валаам" – подразумевает, что Шмелев пишет об уже утраченном, о мире, который существовал только до революции, но, тем не менее, все повествование очень радостное и живое. Читатель не просто видит яркие картины природы Ладоги и монастырского быта, а проникается самим духом монашества. Так, в нескольких словах описывается Иисусова молитва: "Великая от этой молитвы сила, – говорит автору один из монахов, – но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение".
Впечатления от поездки оказались неожиданными, противоречивыми и пестрыми. Видимо, потому, что, как сам Шмелев признается, на Валаам он поехал «никакой по вере». "Светлый Валаам" явил студенту и некоторые подробности суровой и безрадостной жизни рядовых монахов, тунеядство пастырей, вызвал ироническую улыбку в рассуждениях об "аскетизме плоти" и вовсе неприязненное изображение "любопытствующих", праздных посетителей, пьяноватых купчиков и девок. Тем сильнее была потребность поделиться увиденным. Так родились очерки "На скалах Валаама". "Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда такое!" – вспоминал Шмелев позднее в автобиографическом рассказе "Первая книга" (1934). (Позже уже в 30-х гг. в эмиграции очерки были переписаны заново). Само название книги – "Старый Валаам" – подразумевает, что Шмелев пишет об уже утраченном, о мире, который существовал только до революции, но, тем не менее, все повествование очень радостное и живое. Читатель не просто видит яркие картины природы Ладоги и монастырского быта, а проникается самим духом монашества. Так, в нескольких словах описывается Иисусова молитва: "Великая от этой молитвы сила, – говорит автору один из монахов, – но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение". То, что в книге Шмелева содержится не просто перечень поверхностных впечатлений автора, а богатый материал, знакомящий читателя со всеми сторонами Валаамской жизни – от устава старца Назария до технического устройства монастырского водопровода, – объясняется его подходом к творчеству в целом. Во время написания и "Старого Валаама", и "Богомолья", и своего последнего романа "Пути Небесные", Шмелев прочитывал груды специальной литературы, пользуясь библиотекой Духовной академии, постоянно изучая Часослов, Октоих, Четьи-Минеи, так что в конечном итоге легкость и изящество стиля его книг сочетается с их громадной информативностью.
То, что в книге Шмелева содержится не просто перечень поверхностных впечатлений автора, а богатый материал, знакомящий читателя со всеми сторонами Валаамской жизни – от устава старца Назария до технического устройства монастырского водопровода, – объясняется его подходом к творчеству в целом. Во время написания и "Старого Валаама", и "Богомолья", и своего последнего романа "Пути Небесные", Шмелев прочитывал груды специальной литературы, пользуясь библиотекой Духовной академии, постоянно изучая Часослов, Октоих, Четьи-Минеи, так что в конечном итоге легкость и изящество стиля его книг сочетается с их громадной информативностью.Изданная за счет автора (1897), книга была остановлена в цензуре. "Сам" всесильный обер-прокурор святейшего синода Победоносцев дал лаконичное распоряжение: "Задержать". Обезображенная цензурой, "израненная, в пластырях", книга раскупалась плохо, и большая часть тиража была продана молодым автором букинисту за гроши. Первый выход в литературу получился неудачным. Перерыв затянулся на целое десятилетие.
После окончания университета и года военной службы Шмелев восемь лет тянет лямку унылого чиновничества в глухих углах Московской и Владимирской губерний. Субъективно очень мучительные, годы эти обогатили его знанием того огромного и застойного мира, который можно назвать уездной Россией. "Служба моя, – отмечал писатель, – явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство" (Русская литература, 1973, № 4, с. 145. Львов-Рогачевский В.).
Месяцы напролет колесит он по ухабам русских дорог, встречая на своем пути представителей всех слоев общества, ночует на постоялых дворах, заросших сиренью и лопухами, пропитанных запахами сена и щей, накапливает впечатления от глухой русской провинции, теплой и сохранившей еще атмосферу старины. Характеры, говор и обороты речи — его «палитра», его писательский капитал…
К 1905 г. интересы его определяются окончательно. Шмелев не сомневается: настоящее дело в жизни для него может быть только одно — писательство. Он начинает печататься в «Детском чтении», сотрудничать в журнале «Русская мысль», и, наконец, в 1907 г., выходит в отставку с тем, чтобы обосноваться в Москве и уже целиком посвятить себя занятию литературой.
В уездных городках, фабричных слободках, пригородах, деревнях встречает Шмелев прототипов героев многих своих повестей и рассказов 1900-х годов. Отсюда вышли "По спешному делу" (1907), "Гражданин Уклейкин", "В норе" (1909), "Под небом" (1910), "Патока" (1911).
До этих углов уже доходили первые раскаты приближающейся революционной грозы. В обстановке наступавшего общественного подъема, в радостно-тревожной атмосфере первой русской революции и следует искать причины, заставившие Шмелева снова взяться за перо. "Я был мертв для службы, – рассказывал он критику В. Львову-Рогачевскому. – Движение девятисотых годов как бы приоткрыло выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чуял, что начинаю жить" [Новейшая русская литература. М., 1927, с. 276]. И основные произведения Шмелева, написанные до "Человека из ресторана", – "Вахмистр" (1906), "Распад" (1906), "Иван Кузьмич" (1907), "Гражданин Уклейкин", – все прошли под знаком первой русской революции.
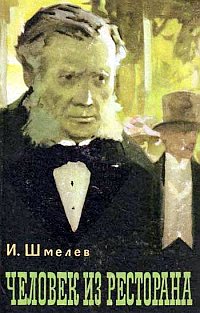 Но настоящий успех принесла Шмелеву повесть «Человек из ресторана» (1910). Историю «маленького человека», отношений отцов и детей в обстановке революции 1905 г. критика и читатели приняли с восторгом, сравнивая ее с дебютом Ф. М. Достоевского. В годы между двумя революциями Шмелев получает широкое признание и уважение признанных мастеров, товарищей по перу. Повесть "Человек из ресторана" была важной вехой для Шмелева-писателя и, напечатанная в XXXVI сборнике "Знания", имела шумный успех. В ее положительной оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. По мотивам шмелевской повести был даже создан фильм "Человек из ресторана", где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся русский актер Михаил Чехов.
Но настоящий успех принесла Шмелеву повесть «Человек из ресторана» (1910). Историю «маленького человека», отношений отцов и детей в обстановке революции 1905 г. критика и читатели приняли с восторгом, сравнивая ее с дебютом Ф. М. Достоевского. В годы между двумя революциями Шмелев получает широкое признание и уважение признанных мастеров, товарищей по перу. Повесть "Человек из ресторана" была важной вехой для Шмелева-писателя и, напечатанная в XXXVI сборнике "Знания", имела шумный успех. В ее положительной оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. По мотивам шмелевской повести был даже создан фильм "Человек из ресторана", где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся русский актер Михаил Чехов.О стойкой популярности "Человека из ресторана" можно судить и по такому характерному эпизоду. Шмелёвы чуть не погибли во время страшного крымского голода зимой 1921 г. Они зарегистрировались в одной коммунальной столовой, где им выдавали 200 граммов хлеба в день. Но столовая уже была закрыта: хлеб кончился. Вдруг подошел человек и, оглянувшись по сторонам, тихо спросил: «Вы Шмелев? Это Вы написали «Человек из ресторана»? Шмелев рассеянно кивнул. Незнакомец вложил ему в руку сверток, завернутый в белый холст. Хлеб! Целая буханка! Иван Сергеевич считал эту буханку лучшим своим гонораром. «Голод отошел, мы остались живы. Спасибо человеку, давшему нам хлеб», – писал он в одном из писем.
Начало 20-х годов на много лет определило характер творчества Ивана Сергеевича Шмелева. В истории нет сослагательного наклонения, и все же… Не окажись он «запертым» в Крыму во время голода 1921 г., стоившего России 5, 5 млн. жизней, не стань очевидцем красного террора, возможно, о нем осталась бы память лишь как о замечательном, тонком, проникновенном писателе-реалисте, в чьем творчестве порой заметны мотивы Гоголя, Лескова и Куприна.
Влияние критического направления особенно явно в известном его рассказе «Оборот жизни» (1914-1915), написанном в Калужском имении, где Шмелевы переживали события, связанные с началом германской войны. Тема выбрана с гоголевской остротой — дух стяжательства, обращение к собственной выгоде общей беды. Столяру Митрию война принесла барыш. Работа его – изготовление могильных крестов. Но неожиданно свалившиеся на него «доходы» подталкивают и его к осмыслению происходящей трагедии.
 Восприятие войны Шмелевым отчасти обостряется в связи с уходом на фронт его единственного сына Сергея. Болью проникнута и суровая повесть «Это было». Но, в целом, это еще привычный, «узнаваемый» Шмелев.
Восприятие войны Шмелевым отчасти обостряется в связи с уходом на фронт его единственного сына Сергея. Болью проникнута и суровая повесть «Это было». Но, в целом, это еще привычный, «узнаваемый» Шмелев.Теперь Шмелев – широко читаемый, признанный в России прозаик. В 1912 г. организуется Книгоиздательство писателей в Москве, членами-вкладчиками которого становятся С.А. Найденов, братья И.А. и Ю.А. Бунины, Б.К. Зайцев, В.В. Вересаев, Н.Д. Телешов, И С. Шмелев и другие. Все дальнейшее творчество Шмелева 1910-х гг. связано с этим издательством, в котором выходит собрание его сочинений в восьми томах. В течение 1912-1914 гг. в Книгоиздательстве публикуются рассказы и повести Шмелева "Стена", "Пугливая тишина", "Росстани", "Виноград", упрочившие его положение в литературе как крупного писателя-реалиста.
Первое, на что обращаешь внимание, когда знакомишься с творчеством Шмелева этих лет, – тематическое многообразие его произведений. Тут и разложение дворянской усадьбы ("Пугливая тишина", "Стена"); и драматическая разъединенность благополучных, несколько пресыщенных жизнью артистов-интеллигентов с "простым" человеком – крутым и внутренне богатым в своей цельности речным смотрителем Серегиным ("Волчий перекат"); и тихое житье-бытье прислуги ("Виноград"); и последние дни богатого подрядчика, приехавшего помирать в родную деревню ("Росстани").
Судьба патриархального купечества, сходящего на нет, уступающего место прущему напролом новому, бесцеремонному и наглому буржуа, – пожалуй, центральный мотив в разнообразном творчестве Шмелева 1910-х годов.
Можно сказать, что в целом дореволюционные произведения Шмелева вдохновлены верой в земное счастье людей в радостном будущем, упованиями на социальный прогресс и просвещение народа, ожиданиями перемен в общественном строе России. Вопросы веры, религиозного сознания в это время мало занимают писателя: увлекшись в юности идеями дарвинизма, толстовства, социализма, Шмелев на долгие годы отходит от Церкви и становится, по собственному признанию, «никаким по вере». Однако уже в этот период явственно звучат в его произведениях очень важные для Шмелева темы страдания и сострадания человеку, которые станут определяющими во всем последующем творчестве.
... Наступает 1917 г. Февральскую революцию Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из Сибири. "Революционеры-каторжане, – с гордостью и изумлением писал Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, в действующую армию, – оказывается, очень меня любят как писателя, и я, хотя и отклонял от себя почетное слово – товарищ, но они мне на митингах заявили, что я – "ихний" и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, – они меня читали, я облегчал им страдания" [Письмо от 17 апреля 1917 г. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ)].
Однако взгляды Шмелева ограничивались рамками "умеренного" демократизма. Он не верил в возможность скорых и радикальных преобразований в России. "Глубокая социальная и политическая перестройка сразу вообще немыслима даже в культурнейших странах, – утверждал он в письме к сыну от 30 июля 1917 г., – в нашей же и подавно. Некультурный, темный вовсе народ наш не может воспринять идею переустройства даже приблизительно". Но он любил свой народ и сына наставлял: "Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его нет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оценить положительное"[Отдел рукописей ГБЛ. Там же].
Октябрьскую революцию Шмелев не принял, но вначале не терял оптимизма. 17.11.1917 г. он записал: «Разрушение и хаос, куда не поглядишь... Что ж, умирает жизнь? Рождается..., только мы-то старыми глазами ясно не видим этого... Смерти нет для Великой Страны».
Отход писателя от общественной деятельности, его растерянность, неприятие происходящего – все это сказалось на его творчестве 1918-1922 гг. В ноябре 1918 г. в Алуште Шмелев пишет повесть "Неупиваемая Чаша", которая позднее своей "чистотою и грустью красоты" вызвала восторженный отклик Томаса Манна (письмо Шмелеву от 26 мая 1926 г.).
Как честный художник, Шмелев писал только о том, что мог искренне прочувствовать. Он заклеймил в повести "барство дикое, без чувства, без закона", бесчеловечность крепостничества. Но понять, что революция освобождает народ от барства, он не мог. Он видел только, что на полях России кипит братоубийственная гражданская война, и это очень волновало его. Видя вокруг себя неисчислимые страдания и смерть, Шмелев выступает с осуждением войны "вообще" как массового психоза здоровых людей (повесть "Это было", 1919 г.) или просто показывает бессмысленность гибели цельного и чистого Ивана в плену, на чужой стороне ("Чужой крови", 1918-1923). Во всех произведениях этих лет уже ощутимы отголоски позднейшей проблематики, Шмелева-эмигранта.
 Об отъезде писателя в эмиграцию – разговор особый. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 г. Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло...
Об отъезде писателя в эмиграцию – разговор особый. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 г. Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло...Первым знаком беды стал арест сына Сергея.
Сделаем небольшое отступление... Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына Сергея, – значит, сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, дышал над ним, а когда сын-офицер оказался на германской, в артиллерийском дивизионе, – считал дни, писал нежные письма. "Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой. Крепко и сладко целую твои глазки и всего тебя...", "Проводили тебя (после короткой побывки) – снова из меня душу вынули" [Отдел рукописей ГБЛ]. Когда многопудовые германские снаряды – "чемоданы" – обрушивались на русские окопы и смерть витала рядом с его сыном, он тревожился, сделал ли его "растрепка", "ласточка" прививку и кутает ли шею шарфом.
Вся вина Сергея Шмелева в глазах новых властей заключалась в том, что он был мобилизован еще до революции. Сначала оказался на фронте, а потом — в армии генерала Врангеля. Молодой человек, отказавшийся от эмиграции и не предполагавший возможных последствий… Он был заключен в один из тех страшных «подвалов», где тысячи определенных к истреблению комиссары морили голодом, томили до измождения, прежде чем, ограбив, расстрелять тайком, ночью, за балкой, и сбросить безымянными в общий ров… Свыше двадцати тысяч в одном лишь Крыму!
Попытки добиться освобождения Сергея оказались тщетны. Шмелев писал к Горькому, Вересаеву, Луначарскому… В письмах он молил последнего о помощи: «Без сына, единственного, я погибну. Я не могу, не хочу жить… У меня взяли сердце. Я могу только плакать бессильно. Помогите, или я погибну. Прошу Вас, криком своим кричу — помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чем».
Уже узнав о расстреле сына, Иван Сергеевич просил найти и выдать его тело: «Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле. Это мое право. Помогите».
Горе от потери сына круто изменило жизнь писателя. Но тогда Шмелев не знал: впереди было еще такое горе, что смерть сына оказалась лишь одним страшным событием в ряду многих: за «реквизициями» в Крыму наступил голод. В 1923-м, уже за границей, Шмелев впервые сможет рассказать о том, что он видел и пережил сам. Его «Солнце мертвых» заставит многих симпатизирующих «великому социальному эксперименту» в России впервые задуматься о цене подобного «опыта».
Поняв, что больше ничего нельзя узнать о смерти сына, Шмелевы ищут возможности выехать из Крыма в Москву.
Приехав в столицу, Шмелевы стали хлопотать о выезде из страны: «Мне нужно отойти подальше от России, чтобы увидеть ее все лицо, а не ямины, не оспины, не пятна, не царапины, не гримасы на ее прекрасном лице. Я верю, что лицо ее все же прекрасно. Я должен вспомнить его. Как влюбленный в отлучке вдруг вспоминает непонятно-прекрасное что-то, чего и не примечал в постоянном общении. Надо отойти...».
По приглашению Бунина в 1922 г. Шмелевы выехали сначала в Берлин, затем – в Париж.
 После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика. Его голос стал глухим и тихим. От созерцания на лице появились глубокие морщины, грустные серые глаза потухли и глубоко запали. «Я все потерял. Все. Я Бога потерял, и какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога?.. С большой ли, с малой буквы — бог (Бог) — он нужен писателю, необходимо нужен. Мироощущение на той или иной религиозной основе — условие, без чего нет творчества».
После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика. Его голос стал глухим и тихим. От созерцания на лице появились глубокие морщины, грустные серые глаза потухли и глубоко запали. «Я все потерял. Все. Я Бога потерял, и какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога?.. С большой ли, с малой буквы — бог (Бог) — он нужен писателю, необходимо нужен. Мироощущение на той или иной религиозной основе — условие, без чего нет творчества».Лето 1923 г. Шмелевы провели у И. Бунина в Грассе, где Шмелев дописывал эпопею «Солнце мертвых», самую, по словам А. Амфитеатрова, «страшную книгу, написанную на русском языке», — о большевистском терроре и голоде в Крыму. Шмелев не рассказывал о своем личном горе, но Т. Манн, Г. Гауптман, Р. Киплинг, Р. Роллан почувствовали общечеловеческое звучание книги. Это «кошмарный, окутанный в поэтический блеск документ эпохи, ... читайте, если у вас хватит смелости», — писал Т. Манн. Книга впервые опубликована в 1923 г. в Париже и впоследствие переведена на 13 языков. Но, пожалуй, наиболее проникновенно высказал своё мнение о «Солнце мертвых» прозаик Иван Лукаш: «Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на «большие» языки... Читал ее за полночь, задыхаясь. О чем книга И. С. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли. О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной, – когда умерла Россия – о мертвом солнце мертвых...».
После выхода этого романа вернуться в Россию было уже нельзя...
 И, тем не менее, годы, проведенные Шмелевым в эмиграции, насыщены плодотворной творческой работой. Шмелев публикуется во многих эмигрантских изданиях: «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и др. За рубежом при жизни писателя вышло около 20 его книг на русском языке. Шмелев остро переживал то, что в СССР все они были запрещены.
И, тем не менее, годы, проведенные Шмелевым в эмиграции, насыщены плодотворной творческой работой. Шмелев публикуется во многих эмигрантских изданиях: «Последние новости», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Сегодня», «Современные записки», «Русская мысль» и др. За рубежом при жизни писателя вышло около 20 его книг на русском языке. Шмелев остро переживал то, что в СССР все они были запрещены.Рассказы и повести Шмелева 20-30-х гг. отражают крушение просветительски-народнической идеологии. Одной из магистральных тем творчества становится беспощадный суд над либеральной интеллигенцией, которая соблазнила народ, «отняла» у него Бога и пробудила разгул низменных страстей, жертвой которого сама же и пала. Творчество этих лет проникнуто острой болью за поруганную родину и ее оскверненные святыни.
Вместе с тем Шмелев резко осуждает европейский мир, который также способствовал разрушению России. Он обличает бездуховность, приземленность современной западной цивилизации, в которой комфорт, удобства и развлечения стали главной целью существования.
Рассказы «Два Ивана» (1924), «Про одну старуху» (1925), «Крымские рассказы» (1924-36), повести «Каменный век» (1924), «На пеньках» (1925) продолжают тему «Солнца мертвых». Автор повествует о бездне страданий русского народа, ввергнутого в братоубийственную гражданскую войну, о кровавом торжестве злой стихии, гневно обличая тех, кто перестроился, «применился» к новой власти и идеологии, кто способен «плюнуть в лицо России, во все святое». Сборник «Свет разума» (1928) посвящен теме духовного очищения, религиозного обновления людей, обреченных на тяжкие испытания в атеистическом государстве. В книге «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной» (1929) раскрываются драматические судьбы русских изгнанников.
В 1927 г. увидел свет лирический, отчасти автобиографический роман Шмелева «История любовная» — о пробуждении первых любовных чувств подростка, в котором идеальная романтическая любовь вступает в конфликт с греховным плотским желанием.
В неоконченном же романе «Солдаты» (1930) Шмелев воссоздает картины русского общества начала века. Название романа означает собирательный образ всех людей, объединенных любовью к России, всех носителей национальной идеи, стремящихся укрепить и строить Русь. Им противостоят политиканы-«демократы», ненавидящие армию и разлагающие страну.
«Исповедь раненого сердца» — это определение И. А. Ильина можно отнести не только к художественным произведениям Шмелева, но и к его публицистике, расцвет которой приходится на середину 20-х-30-е годы. Многочисленные очерки и публицистические выступления Шмелева объединены бесконечной любовью к родине, мыслью о ее великом и особом предназначении в судьбах мира. Шмелев верит в грядущее возрождение России, которое возможно только «на основе религиозной… — евангельском учении деятельной любви». Идеи Шмелева во многом близки концепции русской истории его друга и единомышленника философа И. А. Ильина.
 «Среди зарубежных русских писателей И. С. Шмелев — самый русский, — отмечал поэт К. Бальмонт. — Ни на минуту в своем душевном горении он не перестает думать о России и мучиться ее несчастьями». Эти слова помогают понять, почему Шмелев часто оказывался одинок в культурной среде русской эмиграции, имевшей преимущественно «левую», либерально- демократическую ориентацию. Критиков раздражал патриотизм и национальная устремленность творчества писателя.
«Среди зарубежных русских писателей И. С. Шмелев — самый русский, — отмечал поэт К. Бальмонт. — Ни на минуту в своем душевном горении он не перестает думать о России и мучиться ее несчастьями». Эти слова помогают понять, почему Шмелев часто оказывался одинок в культурной среде русской эмиграции, имевшей преимущественно «левую», либерально- демократическую ориентацию. Критиков раздражал патриотизм и национальная устремленность творчества писателя.«Черносотенной полицейщиной» окрестила эмигрантская пресса роман «Солдаты», где достойно показаны царские офицеры. А видный критик русского зарубежья Г. Адамович преследовал Шмелева оскорбительными, игриво-глумливыми рецензиями. Шмелеву не могли простить «православные русские традиции… то, что он осмелился встать на защиту исторической России против революции». Среди друзей и единомышленников Шмелева можно назвать И. Ильина, семью генерала А. Деникина, Н. Кульмана, В. Ладыженского, К. Бальмонта, А. Куприна. Как на родине, так и в эмиграции на Шмелева одно за другим обрушивались «предельные испытания».
Тяжела была эмигрантская жизнь Шмелева: "Нашу боль ничто не может унять, мы вне жизни...». Помимо всего прочего, огромную массу сил и времени у Шмелева отнимали заботы о самых насущных нуждах: что есть, где жить. Из всех писателей-эмигрантов Шмелев жил беднее всех, в первую очередь, потому, что менее других умел (и хотел) заискивать перед богатыми издателями, искать себе покровителей, проповедовать чуждые ему идеи ради куска хлеба. Существование его в Париже без преувеличения можно назвать близким к нищете – не хватало денег на отопление, на новую одежду, отдых летом.
Поиск недорогой и приличной квартиры порой шел долго и был чрезвычайно утомительным: «Отозван был охотой за квартирой. Устали собачьи – нечего. Не по карману. Куда денемся?! /.../ Поглядел на мою, вечную... / т.е. Ольгу Александровну, жену И. Шмелева/ до чего же истомлена! Оба больные – бродим, нанося визиты консьержкам. /.../ Вернулись, разбитые. Собачий холод, в спальне +6 Ц.! Весь вечер ставил печурку, а угля кот наплакал...».
И. Бунину Шмелев напишет: "Как пушинки в ветре проходим мы с женой жизнь. Где ни быть - все одно..."
 Тем не менее, в конечном итоге французская эмигрантская жизнь Шмелевых всегда напоминала жизнь старой России, с годовым циклом православных праздников, со многими обрядами, кушаньями, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни. Православный быт, сохранявшийся в их семье, не только служил огромным утешением для самих Шмелевых, но и радовал окружающих. Неизгладимое впечатление все подробности этого быта произвели на племянника Шмелевых Ива Жантийома-Кутырина, который, будучи крестником писателя, частью стал заменять ему потерянного сына.
Тем не менее, в конечном итоге французская эмигрантская жизнь Шмелевых всегда напоминала жизнь старой России, с годовым циклом православных праздников, со многими обрядами, кушаньями, со всей красотой и гармонией уклада русской жизни. Православный быт, сохранявшийся в их семье, не только служил огромным утешением для самих Шмелевых, но и радовал окружающих. Неизгладимое впечатление все подробности этого быта произвели на племянника Шмелевых Ива Жантийома-Кутырина, который, будучи крестником писателя, частью стал заменять ему потерянного сына."Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца... – пишет Жантийом-Кутырин, – Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на улице Дарю, но особенно часто – в Сергиевское подворье". "Тетя Оля была ангелом-хранителем писателя, заботилась о нем, как наседка... Она никогда не жаловалась... Ее доброта и самоотверженность были известны всем. <...> Тетя Оля была не только прекрасной хозяйкой, но и первой слушательницей и советчицей мужа. Он читал вслух только что написанные страницы, представляя их жене для критики. Он доверял ее вкусу и прислушивался к замечаниям".
К Рождеству, например, в семье Шмелевых готовились задолго до его наступления. И сам писатель, и, конечно, Ольга Александровна, и маленький Ив делали разные украшения: цепи из золотой бумаги, всякие корзиночки, звезды, куклы, домики, золотые или серебряные орехи. Елку наряжали в эмиграции многие семьи. Рождественская елка в каждой семье сильно отличалась от других. Во всякой семье были свои традиции, свой секрет изготовления елочных украшений. Происходило своего рода соперничество: у кого самая красивая елка, кому удалось придумать самые интересные украшения. Так, и потеряв родину, русские эмигранты находили ее в хранении дорогих сердцу обрядов.
Следующая колоссальная утрата произошла в жизни Шмелева в 1936 г., когда от сердечного приступа умерла Ольга Александровна. Шмелев винил себя в смерти жены, убежденный, что, забывая себя в заботах о нем, Ольга Александровна сократила собственную жизнь. Накануне смерти жены Шмелев собирался ехать в Прибалтику, в частности, в Псково-Печерский монастырь, куда эмигранты в то время ездили не только в паломничество, но и чтобы ощутить русский дух, вспомнить родину.
Поездка состоялась только спустя полгода. Покойная и благодатная обстановка обители помогла Шмелеву пережить это новое испытание, и он с удвоенной энергией обратился к написанию "Лета Господня" и "Богомолья", которые на тот момент были еще далеки от завершения. Окончены они были только в 1948 г. – за два года до смерти писателя.
Пережитые скорби дали ему не отчаяние и озлобление, а почти апостольскую радость для написания этого труда, той книги, про которую русские эмигранты тех лет говорили, что хранится она у них в доме на ночном столике рядом со Святым Евангелием.
Шмелев в своей жизни часто ощущал ту особую радость, которая дается благодатью Духа Святого. Так, среди тяжелой болезни ему почти чудом удалось оказаться в храме на пасхальном богослужении: "И вот, подошла Великая Суббота... Прекратившиеся, было, боли поднялись... Слабость, ни рукой, ни ногой.../.../ Боли донимали, скрючившись, сидел в метро... В десять добрались до Сергиева Подворья. Святая тишина обвеяла душу. Боли ушли. И вот, стала наплывать-нарождаться... радость! Стойко, не чувствуя ни слабости, ни болей, в необычайной радости слушал Заутреню, исповедовались, обедню всю выстояли, приобщились... – и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не помню – когда так чувствовал!"
Поистине чудесным считал Шмелев и свое выздоровление в 1934 г. У него была тяжелая форма желудочного заболевания, писателю грозила операция, и он и врачи опасались самого трагического исхода. Шмелев долго не мог решиться на операцию. В тот день, когда его доктор пришел к окончательному выводу о том, что без операционного вмешательства можно обойтись, писатель видел во сне свои рентгеновские снимки с надписью "Св. Серафим". Шмелев считал, что именно заступничество прп. Серафима Саровского спасло его от операции и помогло ему выздороветь...
 Материальное положение Шмелева порой доходило до нищенства. Война 1939-45 гг., пережитая им в оккупированном Париже, клевета в печати, которой недруги пытались очернить имя писателя, обвинения его в сочувствии фашистам усугубляли его душевные и физические страдания. Ведь, по воспоминаниям современников, Шмелев был человеком исключительной душевной чистоты, не способным ни на какой дурной поступок!.. Ему были присущи глубокое благородство натуры, доброта и сердечность. О пережитых страданиях говорил облик Шмелева — худого человека с лицом аскета, изборожденным глубокими морщинами, с большими серыми глазами, полными ласки и грусти.
Материальное положение Шмелева порой доходило до нищенства. Война 1939-45 гг., пережитая им в оккупированном Париже, клевета в печати, которой недруги пытались очернить имя писателя, обвинения его в сочувствии фашистам усугубляли его душевные и физические страдания. Ведь, по воспоминаниям современников, Шмелев был человеком исключительной душевной чистоты, не способным ни на какой дурной поступок!.. Ему были присущи глубокое благородство натуры, доброта и сердечность. О пережитых страданиях говорил облик Шмелева — худого человека с лицом аскета, изборожденным глубокими морщинами, с большими серыми глазами, полными ласки и грусти.О Шмелеве этой поры – о человеке и художнике – писал близко знавший его Борис Зайцев: "Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно – с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами "Лето Господне" и "Богомолье" – в них наиболее полно выразилась его стихия" [Письмо от 7 июля 1959 г. Архив автора].
В самом деле, именно "Лето Господне" (1933-1948) и "Богомолье" (1931-1948), а также тематически примыкающий к ним сборник "Родное" (1931) явились вершиной позднего творчества Шмелева и принесли ему европейскую известность. Он написал немало замечательного и кроме этих книг: "Солнце мертвых" (1923), "Няня из Москвы" (1936). Но магистральная тема, которая все более проявлялась, обнажалась, выявляла главную и сокровенную мысль жизни (что должно быть у каждого подлинного писателя), сосредоточенно открывается именно в этой "трилогии", не поддающейся даже привычному жанровому определению (быль-небыль? миф- воспоминание? свободный эпос?): путешествие детской души, судьба, испытания, несчастье, просветление. Здесь важен выход к чему-то положительному (иначе – зачем жить?) – к мысли о Родине. Шмелев пришел к ней на чужбине не сразу.
Из глубины души, со дна памяти подымались образы и картины, не давшие иссякнуть обмелевшему току творчества в пору отчаяния и скорби. С болью узнавал Иван Сергеевич о разрушениях московских святынь, о переименовании московских улиц и площадей. Но тем ярче и бережней он стремился сохранить в своих произведениях то, что помнил и любил больше всего на свете.
 Живя в Грассе, у Буниных, Шмелев рассказывал о себе, о своих ностальгических переживаниях А. И. Куприну, которого горячо любил: "Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я – разве уж так весело? На миг забудешься... (...) Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. ... Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. <...> Все у меня плохо, на душе-то".
Живя в Грассе, у Буниных, Шмелев рассказывал о себе, о своих ностальгических переживаниях А. И. Куприну, которого горячо любил: "Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я – разве уж так весело? На миг забудешься... (...) Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. ... Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все – чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. <...> Все у меня плохо, на душе-то".Отсюда, из чужой и "роскошной" страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия, а в России – страна его детства, Москва, Замоскворечье.
Тема реальности действия Божественного Промысла в земном мире получила воплощение в итоговом произведении писателя — романе «Пути небесные» (т. 1–1937; т. 2–1948). Роман воссоздает судьбы реальных людей, выведенных под своими собственными именами, — скептика-позитивиста, инженера В. А. Вейденгаммера (родственника Шмелева со стороны жены) и глубоко верующей, кроткой и внутренне сильной Дарьи Королевой — послушницы Страстного монастыря в Москве, покинувшей обитель, чтобы связать свою жизнь с Вейденгаммером. Книга посвящена таинственному пути соединения человека с Богом, спасению души. Роман стал уникальным явлением в русской литературе: в основе раскрытия судеб и характеров лежит святоотеческая культура, православное аскетическое мировоззрение. Его внутренним сюжетом является «духовная брань» героев со страстями, искушениями и нападениями злых сил. Молитвенный подвиг, упорная и жестокая борьба с грехом в себе и внешними соблазнами, скорбь от тяжких падений и духовная радость побед, благодатные озарения — эти моменты нашли многогранное воплощение на страницах последнего романа писателя. Смерть Шмелева оборвала работу над третьим томом, но и две вышедшие книги вполне отразили сам дух православной жизни, христианские представления о мире и человеке...
 Кончина писателя-подвижника глубоко символична: 24 июня 1950 г. в день памяти прп. старца Варнавы, некогда благословившего его «на путь», тяжело больной Шмелев приезжает в расположенный неподалеку от Парижа (в местечке Бюси-ан-От) русский монастырь Покрова Божией Матери и в тот же день тихо предает душу Богу.
Кончина писателя-подвижника глубоко символична: 24 июня 1950 г. в день памяти прп. старца Варнавы, некогда благословившего его «на путь», тяжело больной Шмелев приезжает в расположенный неподалеку от Парижа (в местечке Бюси-ан-От) русский монастырь Покрова Божией Матери и в тот же день тихо предает душу Богу.Духовный смысл совершившегося был очень точно раскрыт насельницей монастыря монахиней Феодосией: "...человек приехал умереть у ног Царицы Небесной под Её Покровом".
Похоронен писатель был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа...
Особое внимание хотелось бы уделить событию, которое произошло в 2000 г.: перезахоронению праха И.С. Шмелева и его жены в Москве, на кладбище Донского монастыря.
«Я знаю: придет срок – Россия меня примет!» – писал Шмелев задолго до своей смерти, в то время, когда даже имя России было стерто с карты земли. За несколько лет до кончины он составил духовное завещание, в котором отдельным пунктом выразил свою последнюю волю:
 «Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! в моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву». Писатель просил, чтобы его похоронили рядом с отцом в Донском монастыре.
«Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! в моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву». Писатель просил, чтобы его похоронили рядом с отцом в Донском монастыре. И Господь по вере его исполнил его заветное желание: 30 мая 2000 г. его прах обрел покой в родной Москве, на кладбище Донского монастыря рядом с могилой отца. Расскажем об этом подробнее.
26 мая 2000 г. самолет из Франции с гробом Ивана Сергеевича и Ольги Александровны Шмелевых приземлился в Москве. Он был перенесен и установлен в Малом Соборе Донского монастыря и в течение четырех дней находился в храме, в котором Патриарх Московский и всея Руси каждый год готовит – варит – Святое Миро, рассылаемое потом по всем храмам Русской Православной Церкви для совершения Таинства Миропомазания. Здесь всегда стоит ни с чем не сравнимый неизъяснимый неземной аромат Святого Мира, как будто благоухание Святой Руси.
... Рано утром в храме еще никого не было. Молодой инок возжигал свечи у гроба писателя, стоявшего посредине под древними сводами храма. В этом храме не раз бывал Иван Сергеевич, здесь отпевали его отца и других Шмелевых, погребенных здесь же на семейном участке монастырского кладбища.
 Гроб Шмелева стоял покрытый золотой парчой, неожиданно маленький – будто детский, где-то метр двадцать – не больше. В одном гробе были положены вместе останки Ивана Сергеевича и его супруги Ольги Александровны.
Гроб Шмелева стоял покрытый золотой парчой, неожиданно маленький – будто детский, где-то метр двадцать – не больше. В одном гробе были положены вместе останки Ивана Сергеевича и его супруги Ольги Александровны.А чуть ранее, 25 мая, во Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа было совершено "обретение" останков Шмелева. Идея принадлежала Елене Николаевне Чавчавадзе, заместителю председателя Российского фонда культуры. Два года ушло на обращения, согласования, бумажные и финансовые дела. Разрешение министерства иностранных дел Франции было получено в год 50-летия со дня смерти Шмелева. В присутствии полицейских чинов, крестника и наследника писателя И. Жантийома-Кутырина и телерепортеров была вскрыта могила великого писателя. Под большой плитой на глубине почти два метра открылись останки Ивана Сергеевича и Ольги Александровны. От сырости почвы гробы истлели, но косточки остались целыми. Их бережно собрали в этот маленький гробик, который тут же парижские полицейские власти опечатали и отправили в Россию.
Быть погребенным рядом считается особым Божиим благословением супругам, прожившим вместе всю жизнь. Иван и Ольга Шмелевы сподобились большего: они оказались погребены в одном гробе...
В Москве 30 мая стояла какая-то удивительная светлая погода, особый "шмелевский" день – солнце светилось как золотое пасхальное яйцо.
 Гроб Шмелева из храма несли к могиле на плечах священники. Одним из них был о. Александр Шмелев, внучатый племянник писателя. Кто-то из батюшек сказал: "Так только архиереев хоронят". Потом у могилы еще кто-то добавил: "Не по чину даже". Ведь гроб на руках священники несут, если погребают своего собрата и сослужителя у алтаря Божия. Господь сподобил Шмелева особой чести. Наверное, за его многую и великую любовь к Святой Руси, к Святому Православию. Так не хоронили ни одного русского писателя!
Гроб Шмелева из храма несли к могиле на плечах священники. Одним из них был о. Александр Шмелев, внучатый племянник писателя. Кто-то из батюшек сказал: "Так только архиереев хоронят". Потом у могилы еще кто-то добавил: "Не по чину даже". Ведь гроб на руках священники несут, если погребают своего собрата и сослужителя у алтаря Божия. Господь сподобил Шмелева особой чести. Наверное, за его многую и великую любовь к Святой Руси, к Святому Православию. Так не хоронили ни одного русского писателя!Перед погребением останков Ивана Шмелева и его жены Ольги Александровны Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил панихиду. Говоря о писателе, Патриарх, в частности, сказал: " Произведения его проникнуты глубоко церковным, православным, лично пережитым мироощущением… Шмелев посвятил все свое творчество, все свои силы и таланты тому, чтобы "оповестить" людей об истинности веры православной. ... Настало время, когда мы можем воздать должное этому прекрасному человеку, православному писателю и истинному русскому патриоту...».
Нельзя не сказать здесь и еще об одном произошедшем в этот день событии. Господь сподобил Шмелева в этот день еще одного утешения. Во время погребения к могиле протиснулся мужчина, который передал целлофановый пакетик с землей: "Можно высыпать в могилу Шмелева. Это из Крыма, с могилы его сына – убиенного воина Сергия». «Неужели нашли?!» – спросили мужчину. «18 мая, полторы недели назад, найдено захоронение 18 убиенных в 1921 г. белых офицеров», – отвечал Валерий Львович Лавров, председатель Общества Крымской культуры при Таврическом университете, специально приехавший на перезахоронение Шмелева с горсткой этой земли.
Не было у Шмелева более глубокой незаживающей раны, нежели убийство большевиками в Крыму его сына Сергея. Шмелев даже отказывался от гонораров за свои книги, издававшиеся в Советском Союзе, не желая ничего принимать от власти, убившей его сына...
 С перезахоронением праха Шмелева и его супруги связаны два других события, не менее важных для почитателей таланта писателя и для всей русской литературы. В апреле 2000 г. внучатый племянник и крестник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелева; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя.
С перезахоронением праха Шмелева и его супруги связаны два других события, не менее важных для почитателей таланта писателя и для всей русской литературы. В апреле 2000 г. внучатый племянник и крестник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелева; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя. Необходимо упомянуть и о том, что памятник-бюст Ивана Сергеевича Шмелева торжественно был открыт 29 мая в старом столичном районе Замоскворечье, где прошло его детство. Этот место не раз с любовью описано в произведениях Шмелева. Скульптурный портрет писателя был сделан еще при его жизни более шестидесяти лет назад в Париже известным в русской эмиграции скульптором Лидией Лузановской.
Необходимо упомянуть и о том, что памятник-бюст Ивана Сергеевича Шмелева торжественно был открыт 29 мая в старом столичном районе Замоскворечье, где прошло его детство. Этот место не раз с любовью описано в произведениях Шмелева. Скульптурный портрет писателя был сделан еще при его жизни более шестидесяти лет назад в Париже известным в русской эмиграции скульптором Лидией Лузановской.  А Московский монетный двор выпустил памятную медаль в честь Ивана Сергеевича Шмелева.
А Московский монетный двор выпустил памятную медаль в честь Ивана Сергеевича Шмелева.... Как-то Иван Сергеевич сказал: “Бог дал грешнику жизнь, и это обязывает. Хочу жить настоящим христианином и смогу это осуществить только в церковном быту”.
 На следующий день после погребения праха Шмелева в Москве был освящен новый храм Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый на месте того самого храма, который некогда посещал маленький Ваня, в котором за свечным ящиком стоял знаменитый Горкин, воспетый с любовью в "Лете Господнем". Того храма уже нет, но на его месте (в иных формах) восстал новый. Кто в этом внешне случайном совпадении, о котором не знали ни строители храма, ни устроители перезахоронения, не увидит знамение Божие! Это своего рода символ: старой "шмелевской" Руси уже нет, но есть новая восстающая Русь Православная, несмотря ни на какие искушения нашего времени...
На следующий день после погребения праха Шмелева в Москве был освящен новый храм Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый на месте того самого храма, который некогда посещал маленький Ваня, в котором за свечным ящиком стоял знаменитый Горкин, воспетый с любовью в "Лете Господнем". Того храма уже нет, но на его месте (в иных формах) восстал новый. Кто в этом внешне случайном совпадении, о котором не знали ни строители храма, ни устроители перезахоронения, не увидит знамение Божие! Это своего рода символ: старой "шмелевской" Руси уже нет, но есть новая восстающая Русь Православная, несмотря ни на какие искушения нашего времени...В заключение позволим себе еще одну цитату И. Ильина, знавшего и любившего Шмелева: «На великий, скорбный и страшный вопрос: «Кто мы, русские, в истории человечества?» – русские прозорливцы не раз уже давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. На этот вопрос отвечает ныне И.С. Шмелев. И ответ его сразу ДРЕВЕН, как сама Россия, и ЮН, как детская душа или как раннее Божие утро. И в этой древности – историческая правда его художественного ответа».